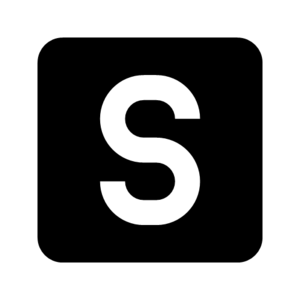Сны в русской литературе: от древности до наших дней
Исследование эволюции снов в русской литературе от «Слова о полку Игореве» до «Обломова» и "Рыцаря на час". Шекспировские мотивы в модернизме и поэзии С. Есенина. "Жизнь есть сон" Кальдерона в перевертышах символистов и обэриутов.
Типы сна можно разделить на
Три типа лабиринта в интерпретации Эко
Эко выделяет три модели лабиринта, отражающие эволюцию epistemологических парадигм:
Три типа лабиринта в интерпретации Эко
Эко выделяет три модели лабиринта, отражающие эволюцию epistemологических парадигм:
- Классический (тесеевский) лабиринт:
- Линейная структура с единственным путём к центру (Минотавр) и обратно.
- Символизирует рационализм Просвещения: истина едина, познание — движение к ней через логику.
- Пример: средневековая схоластика, где «книга природы» читается через призму божественного замысла.
- Маньеристический лабиринт:
- Множество путей, тупиков и петель, но потенциальный выход существует. Следовательно, есть значение сна.
- Теория отражает кризис модерна: истина фрагментируется, но сохраняется вера в её достижимость.
- Пример: научные революции Т. Куна, где смена парадигм не отрицает прогресс.
- Ризоматический лабиринт (сеть):
- Отсутствие центра, иерархии и фиксированных границ. Каждый узел связан с другими произвольным образом (Делёз, Гваттари, 1980).
- Символ постмодерна: истина — продукт интерпретаций, а не объективная данность.
- Пример: сон как пространство, где информация, взятая из образов, множится без «верха» и «низа». Сон как пространство интерпретаций
Сны в русской литературе: лабиринты сознания
К снам в литературе отношение не всегда серьезное: мало ли что приснилось вымышленному герою, однако за сны некоторых персонажей авторы могли подвергаться гонениям. В отношении преследуемых Екатериной снов и авторов интересен сон Митрофанушки из «Недоросля» Фонвизина. Ему, не оторвавшемуся еще от материнской «пуповины» снится агрессия матушки в отношении батюшки. При этом он сообщает, что это ему «всякая дрянь» в глаза лезет: «Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изволишь
бить батюшку». Ребенок каждый раз просыпается и как только снова начинает засыпать – тот же сон-кошмар. С одной стороны, все просто: материнское, земное начало, у детей сильней отцовского, духовного. Это можно также трактовать как алхимическую аллегорию конфликта власти и духовности в эпоху Просвещения. Материальное побеждает и в стране, где матушка Екатерина бьет батюшку-духовность. Екатерина II — Ложный Просветитель. Сама «философ на троне», она предстаёт как сила, подавляющая духовное начало. Её удары по «батюшке» — намёк на продолжавшуюся секуляризацию церковных земель (1764), где государство подчинило себе Церковь. Запрет масонских лож (1782–1786), трактованный как удар по свободомыслию. Не удивительно, что Фонвизину потом долгое время приходится скрываться за границей. Сон императрицей не мог быть не понят, тем более, что сон Радищева в «Путешествии из Петербурга в Москву».
Как же все-таки классики раскрывали тайны человеческой души через сновидения?
В Шкловский написал об идее писал об идее художника запечатлеть в иллюстрациях «Евгения Онегина» не сюжет, а отступления, имея в виду прежде всего описания природы, городов, сны. С.Г.Бочаров счел это «односторонним».[1] И пояснил, что Шкловскому это было необходимо для конструкций, форм. Наша задача – доказать, что художник был прав, сам по себе конструкт того же сна Татьяны в «Евгении Онегине» представляет собой более интересную для изображения архетипическую картину мира, чем явления жизни героев, он ближе к авторской оценке событий, чем пространные, сентиментальные рассуждения рассказчика.
Сон Татьяны имеет обратную перспективу: начало сновидения – это отдаленное будущее, события же непосредственно близкие изображены в конце сна. Дуэль с Ленским, затем – встреча Онегина с собственными химерами, ужас Татьяны перед его химерами, приятие Евгением Татьяны и своей любви, осознание «мое», разлука, – потом замужество Татьяны (медведь) и только потом хрупкий мостик в пространстве петербургского холода светской жизни, куда вносит Татьяну медведь. Лейтмотив – страх. Иное дело у Булгакова: "Приснилась неизвестная Маргарите местность – безнадёжная, унылая, под пасмурным небом ранней весны. Приснилось это клочковатое бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей. Какой-то корявый мостик. Под ним мутная весенняя речонка, безрадостные, нищенские, полуголые деревья, одинокая осина, а далее, – меж деревьев, – бревенчатое зданьице, не то оно – отдельная кухня, не то баня, не то чёрт знает что. Неживое всё кругом какое-то и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика. Ни дуновения ветерка, ни шевеления облака и ни живой души. Вот адское место для живого человека! И вот, вообразите, распахивается дверь этого бревенчатого здания, и появляется он. Довольно далеко, но он отчётливо виден. Оборван он, не разберёшь, во что он одет. Волосы всклокочены, небрит. Глаза больные, встревоженные. Манит её рукой, зовет. Захлёбываясь в неживом воздухе, Маргарита по кочкам побежала к нему и в это время проснулась. (Булгаков. Мастер и Маргарита). Что для одной страх, то для другой отчаянная смелость.
Пушкин «Капитанская дочка». На постели лежит другой отец - не пойду под его благословение. Легитимная власть (Константин Павлович, которому изначально присягали войска) сменяется нелигитимной. Традиция (порядок престолонаследия по Павловскому указу 1797 г.) нарушена. Присягали Константину, на троне Николай, машет топором, лужи крови – расправа над декабристами, отсутствие закона, заманивает Пушкина лояльностью. Моральная дилемма: верность первой клятве vs подчинение новому указу - такая же как у Татьяны: старой клятве быть верной или обещаниям мужу. Такая же как у России: будь верна сердцу. Но ни Россия, ни Татьяна сердцу не верны, только Маргарита, и ту трудно назвать счастливой.
Сны в литературе, являясь сюжетным приёмом, не столько свидетельствуют о подсознании героя, сколько выражают мнение автора и изображают контекст эпохи. В них символы, архетипы включены в игру с читателем – «разгадай нас». Если сон изображает Пушкин, Гоголь или Достоевский, будьте готовы к тому, что в игре множество ходов, как ведущих к архетипам, так и тупиковых, путающих.
Умберто Эко в книге «Открытое произведение» выделил три типа лабиринтов, которые можно применить к анализу снов: классический (тесеевский), маньеристический и ризоматический. Эти модели помогают понять, как русские писатели, от автора «Слова о полку Игореве» до Достоевского, пытались делиться с читателями своими мыслями, заглядывая за границы рационального - в область иррационального.
Главное отличие литературного сна от реального: если сон служит системе саморегуляции человеческой психики, то сон в художественном произведении служит саморегуляции человеческого социума через «гуманистические идеалы». Однако к нашему времени забота о саморегуляции человеческой психики стала частью стало частью системы аксеологических приоритетов, что возвращает наш дискурс к прагматизму, но в новой обёртке.
Классический лабиринт - сон как путь к истине - представлен символическим лабиринтом, дешифровывающимся средневековым образом – нет ничего снаружи, чего не было бы внутри. Встреча с тем, что тебя пугает внутри себя подобна встрече Тесея с минотавром, причем минотавр – животное начало самого Тесея.
Тесеевский лабиринт — линейная структура с единственным центром (Минотавр) и выходом. Это символ веры в абсолютную истину, которую можно достичь через чувства, минуя логику и опираясь на образы. В русской литературе такой сон часто служит пророчеством или моральным уроком. Так «Слово о полку Игореве» имеет выход, хотя совсем не такой, как дается в традиционных трактовках: угроза → предупреждение → путь к спасению. Сон князя Святослава — классический лабиринт с выходом в сакральное знание: половцы будут его подкупать жемчугом, но терем его будет без князька, и Святослав будет при них не князем. Они «нежат» его, но ему не нравится их нежность, что-то в ней унизительное, какое-то превосходство над ним, в их миролюбивом отношении есть привкус их превосходства, и действительно. В нём «синее вино» (чаша Грааля?) и вороны (символы мудрости, а не смерти) указывают на необходимость объединения княжеств. В скандинавской традиции, повлиявшей на Русь, ворон Хугин — воплощение рационального анализа (в противовес интуитивному Мунину). Вполне возможно, вороны — аллегория военной разведки. Святослав как полководец подсознательно осознаёт недостаток информации о противнике. Игорь входе военной операции (пусть сочтенной боярами несанкционированной вылазкой) разведал, насколько сплочены половцы. Кочевые роды действовали как сетевая структура — мобильные отряды подчинялись единому стратегическому замыслу (аналог современных swarm-технологий). Это контрастировало с хаотичной системой вражды и мести на Руси.
Мистическое «знание» как отражение технологического превосходства кочевников.
Сон структурирован и соотнесен с видениями на чужой земле Игоря – разведчика, ведущего разведывательный отряд в логово половцев, там силы природы, как ему кажется, на стороне врага, хотя половцы могут слышать и видеть то е самое и думать, что это предупреждение им.
Тесеевский лабиринт – это познание возможного, в отличие от остальных видов лабиринта – констатации невозможного.
Иною выглядит структура детского сна. Борхес констатировал: «…мышление дикарей и детей, не различающих сон и явь, (…) совпадают». Значит, мы проходим в онтогенезе общую стадию культурного развития человечества – мифологическое мышление, когда мы всё ещё «дикари», для которых сны и мифы суть «эпизоды яви». Каждый ребёнок заново переживает убийство Минотавра, чтобы построить свой космос из хаоса. В этом хаосе есть у ребенка образ матери и отца, только иногда он становится довольно пугающим. Николай Васильев рано потерял родителей, и видел некую гонящуюся за ним свинью: «Я долго не мог согласиться со старшей сестрой вот по какому поводу. «Помнишь, – говорил я ей, – в нашем доме на Байбузенко был у нас странный подвал. В нём жила свинья. Я как-то спустился вниз. В подвале был некий загончик, огородка. А тут, не знаю как, свинья выбралась и стала преследовать меня…». «Да что ты, тебе это приснилось. Ничего такого у нас не было». Я долго не мог ей ПОВЕРИТЬ, настолько очевидным, явным было моё воспоминание, страх перед вырвавшейся животиной… Мне и сейчас кажется иногда, что прав – я». Свинья – земное начало, мать-сыра-земля, материнское пугающее начало гналось за мальчиком, он воспринимал это как реальность. Неспособность отличить сон от яви («прав — я») — признак, что лабиринт ещё не пройден. Вы остаётесь одновременно Тесеем и жертвой, брошенной на съедение. Ощущение сиротства ведет нас из тесеевского лабиринта к ризоматическому – ты не можешь быть сильным Тесеем, пока мал. Нахождение минотавра не спасает от сиротства, выход невозможен или возможен уже во взрослой жизни, если в связи со своими убеждениями проследить географию страха и обрести силу.
2. Маньеристический лабиринт: кризис смысла
А вы когда-нибудь задумывались, как авторы используют сны для раскрытия глубинных смыслов? Возможно, современные нейробиологи, изучающие сны как механизм обработки информации, нашли бы в произведениях Пушкина, Гоголя, Толстого или Рубцова неожиданные параллели и поняли бы, что прежние трактовки этих снов ведут в тупики. Или, быть может, эти сны — всё ещё неразгаданные лабиринты, ждущие своих Тесеев? Как бы то ни было, многозначный сон – маньеристический лабиринт.
«Преступление и наказание» Достоевского показывает несколько снов, сплетенных в маньеристический лабиринт вечных вопросов. Сны Раскольникова — сплетение страха, раскаяния и бунта. Например, кошмар о лошади, забиваемой как ранее в истории забивался старый раб, негодный более к работе. Его не казнят – просто заставляют делать ту работу, которая ему не по силам. Герой – ребенок – новое время - мечется между жалостью и агрессией, не в силах преодолеть в себе господина, хотя бы и одной только лошаденки. Этот лабиринт полон тупиков и петель, но выход существует. Он отражает эпоху модерна, где истина фрагментирована, но ещё достижима. Когда человек не видит выхода, знает, что проблема решена быть не может. Дается некий личностный запрос: почему во сне руки и ноги не слушаются меня? Человек на грани между сном и пробуждением, но зачем он видит это, обращает на это внимание? Может быть потому. Что и в реальности ситуация выходит из-под контроля, но части целого собрать невозможно, и можно лишь ограничиться пониманием причины испуга.
Сон в «Спасской Полести» Радищева – о том же. Подчиненные не слушаются царя. Обманывают его, как руки и ноги во сне. Мозг дает команду действовать, а они действуют лишь для видимости.
«Рабочие и мозг в разобщённом состоянии» действительно, во сне трудно подчинить тело душе. В сне Веры Павловны у Чернышевского «душа» (интеллигенция, писатели) и «рабочие» (масса) существуют в гармонии, но эта гармония — иллюзия, не подчиненная мозгу.
Метафора Гоголя: если чиновники, как «Нос», действуют автономно от «тела» (общества), это означает, что их труд оторван от смысла. У Гоголя Нос карьерист, носит мундир, мнит себя важной персоной — пародия на социальные статусы. Метафора управления идет к Чернышевскому в сны Веры Павловны.
Кто управляет? Вера Павловна видит, что работницы «сами всё решают», но на деле их действия направляются свыше — утопия вертикальна, как и самодержавие. Это напоминает позднесоветский лозунг «Народ и партия едины», где «единство» было фикцией.
3. Аллегоричная схема лабиринта мироздания Согласно Умберто Эко – это ризома, устроенная так, что в ней каждая дорожка имеет возможность пересечься с другой. Нет центра, нет периферии, нет выхода. Потенциально такая структура безгранична, напоминает реальный сон, и потому вошедшие в литературное пространство подлинные сны авторов представляют собой особый интерес – их сны могут пересекаться со снами их героев, а могут не значить ничего – в равной мере.
Однажды Хейденстам засиделся за письменным столом почти до полуночи. Дело было в поместье Нурен, там все дышало каролинской эпохой, что было важно для творчества. Он выбрал это место в надежде обрести вдохновение для работы над циклом «Каролины. Воины Карла XII».
Хейденстам как раз дошел до рокового выстрела под Фредрикстеном и пытался представить себе короля в последние минуты накануне смерти, когда вдруг на лестнице послышался металлический лязг и тяжелые, приглушенные шаги, похожие на стук по камню обернутого войлоком камня. Шаги командора звучали нежнее. Взмокший от ужаса, Хейденстам вгляделся в темноту.
Перед ним стоял Карл. Лысое темя и топорщившиеся на висках волосы словно испускали собственный голубоватый свет. Рука в белой перчатке покоилась на эфесе шпаги, казавшейся невесомой и зависшей в воздухе параллельно полу почти на уровне колен. В скрежещущем, нечеловеческой голосе будто звенели серебряные колокольца.
— Помни, что я взывал к Господу в свою последнюю ночь, — сказал король.
Здесь подразумевается любой выход – взять интерпретацию истории, предложенную призраком короля или счесть это приходом собственного опасения исказить историю, олицетворенную в призраке-лжи. Одно исключает другое.
Пограничные состояния между явью и сном всегда таковы. Что не знаешь, реальность это, или автор рассказа о собственных видениях уже спит. Или, может быть, я-персонаж просто рассказывает, как в мире, забывшем свою память, возвращение ее становится ночным видением.
Полуявь у Ганина («Певучий берег») наполнена архетипическими образами Деда-солнца, Бабки-луны, коня-огня. Его детское восприятие возвращается, несмотря на то, что глаза уже зачерствели. Буря-конь как архетип шаманского скакуна - психоделический проводник между измерениями:
Буйным вихрем к забытому дому
я на Буре-коне прискакал.
И опять на родимой соломе
под божницей резной задремал.
И открылось глазам зачерствелым
в полусвете меж явью и сном:
Конь мой огненный сумраком белым,
белым вечером встал за окном.
Ганин создаёт огненный образ коня-призрака, скачущего по краю распадающейся империи. Дед и бабка: боги распадающейся вселенной. В пространстве догадки - Дед “с бородой, как снег и пурга” — образ Велеса, славянского владыки подземного мира. Его “зорний след” — Млечный Путь, по которому он ведёт героя косить “божьи луга” (по аналогии с Вальхаллой, где павшие косят поля вечно). Бабка, ставшая “сребристой луной” — Макошь, прядущая нити судьбы. Её “решето звёзд” отсылает к мифу о создании галактик из грудного молока богини. Крик случайной боли поколения, все случайно, неожиданно, как само творение мира: бабка “рассыпала звёзд решето” — это метафора утраченной целостности и связи, но что прорастет, после того, как это зерно рассыпано? Герой больше не может интуитивно читать звёздные письмена предков, но ждет нового урожая символов и знаков, противостояния слепому лихолетью - без небесного света. Именно Дед рассказывает о "слепом лихолетье” — веке-волкодаве, уже поджимающем хвост огнехрапому коню.
Что же может открыться глазам "зачерствелым", кроме как бесчисленные пути соединения мира живых с миром предков?
“Золотистых кудрей моих лен” — спутав их злом ли, чем ли другим, герой теряет связь с мифом. Его поэзия (“многострунное молчание”) становится немой — отсюда финальный рассказ деда “между явью и сном”, уже не слышимый явно.
“Злые годины” в этом контексте не абстракция. Герой чувствует, что его “буйная удаль” (символ дореволюционной вольницы) стала анахронизмом и в контексте дружбы с Есениным даже реминисценцией. Конь-Буря больше не скачет в будущее — он замкнут в вечном возврате к избе, к себе, к тьме изначального бытия.
Рассвет (революция) вот-вот развеет все это, весь этот прекрасный древний миф. Остаётся только “золотой огонёк” стиха — херувим в лампаде умирающей культуры.
Владимир Набоков, исследуя мир Толстого, нашел «связь между миром сна и темой смерти»[2]. Набоков в поле своего осмысления включает сон Николая, не вошедший в окончательную редакцию, но все-таки важного для системы сновидений романа: «В тексте первой редакции романа между снами Николая Ростова было вставлено еще одно сновидение. В рукописи этот фрагмент имеет заглавие «Сон». Ему предшествует рассказ о поездке с Денисовым к женщинам. Любопытство и удовольствие от свершившегося смешиваются с раскаянием и чувством стыда, которое Ростов прячет от других, но вся эта правда чувств обнажается в картинах сна. Ростов видит себя «победителем», стоящим на «колеблющемся возвышении» перед толпой народа. Его речи, обращенные к «бесконечной», «как море», толпе, рождают «трепет восторга». Он упивается властью, а «возвышение, на котором он стоял, колеблясь, поднимало его выше и выше». «Вдруг сзади он почуял чей-то один свободный взгляд, мгновенно разрушавший всё прежнее очарованье». Далее во сне появляется женский образ, в котором особенно незабываем «спокойный взгляд» - сочетание «кроткой насмешки и любовного сожаления». «Он чувствовал, что не может жить без нее. Дрожащий мрак безжалостно закрыл от него ее образ, и он заплакал во сне о невозможности быть ею»[3]. Здесь нам стоило бы сопоставить сон Ростова со стоянием Наполеона на Поклонной горе, когда Толстой описывал утро 2 сентября, когда мир вокруг казался Наполеону волшебным, когда он ждал делегации, казался в речах своих, обращенных к Александру, величественным и милосердным – то же любование собой и не раскаяние, но конфуз – торжественная минута затянулась, никто не явился чествовать победителя. По сути важная параллель – сон – явь, стыд, конфуз исчезла из романа, что всегда связано с неизменной заботой жены писателя Софьи Андреевны о нравственности читателей. Но исчезла и одна линия ризомы- разгадка сна отодвинулась за неимением самого сна, соединяющего амбиции Наполеона и юношеский пыл Николая.
Но как же Толстой изображает границу между сном и смертью? Набоков, обозначив путь, не довел до конца сплетение ризоматических нитей между реальностью 1812 года и толстовским временем конца 19 века. Петя Ростов, словно ребёнок в сказке, создаёт «волшебное царство»: чёрное пятно караулки становится пещерой, ведущей в «глубины земли» (намёк на могилу), а костёр превращается в глаз чудовища. Красное пламя — двойственность жизни и смерти. Петя замирает на пороге между игрой («башня, до которой лететь месяц») и реальностью («фура с трофейными лошадьми»). Казак Лихачёв, точащий саблю, кажется ему богатырём из сказки. Но звук стали о камень — это колыбельная перед последним сном. А когда гусар «исчезает, и его нет», мы чувствуем, как жизнь ускользает, как вода сквозь пальцы. Герои 12 года - сказка для последующих поколений, и Петя видит это, осознавая себя в окружении сказочных образов.
Зачем литературе сны? Если реальные сны регулируют психику, то литературные — социум. Они предлагают читателю игру: расшифровать символы, чтобы понять скрытые конфликты эпохи. Сегодня, когда забота о ментальном здоровье стала частью общественного дискурса, сны классиков обретают новое звучание. Они напоминают: за каждым образом стоит не только личная драма, но и «большая история» — будь то спор материи и духа или поиск нравственных ориентиров в мире перемен.
Ольга Чернорицкая, кандидат филологических наук
[1] Бочаров С.Г. Филологические сюжеты, М, 2007, С.35
[2] Набоков В. Онейропоэтика и философия сновидений в романе «война и мир»
[3] Там же.
К снам в литературе отношение не всегда серьезное: мало ли что приснилось вымышленному герою, однако за сны некоторых персонажей авторы могли подвергаться гонениям. В отношении преследуемых Екатериной снов и авторов интересен сон Митрофанушки из «Недоросля» Фонвизина. Ему, не оторвавшемуся еще от материнской «пуповины» снится агрессия матушки в отношении батюшки. При этом он сообщает, что это ему «всякая дрянь» в глаза лезет: «Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изволишь
бить батюшку». Ребенок каждый раз просыпается и как только снова начинает засыпать – тот же сон-кошмар. С одной стороны, все просто: материнское, земное начало, у детей сильней отцовского, духовного. Это можно также трактовать как алхимическую аллегорию конфликта власти и духовности в эпоху Просвещения. Материальное побеждает и в стране, где матушка Екатерина бьет батюшку-духовность. Екатерина II — Ложный Просветитель. Сама «философ на троне», она предстаёт как сила, подавляющая духовное начало. Её удары по «батюшке» — намёк на продолжавшуюся секуляризацию церковных земель (1764), где государство подчинило себе Церковь. Запрет масонских лож (1782–1786), трактованный как удар по свободомыслию. Не удивительно, что Фонвизину потом долгое время приходится скрываться за границей. Сон императрицей не мог быть не понят, тем более, что сон Радищева в «Путешествии из Петербурга в Москву».
Как же все-таки классики раскрывали тайны человеческой души через сновидения?
В Шкловский написал об идее писал об идее художника запечатлеть в иллюстрациях «Евгения Онегина» не сюжет, а отступления, имея в виду прежде всего описания природы, городов, сны. С.Г.Бочаров счел это «односторонним».[1] И пояснил, что Шкловскому это было необходимо для конструкций, форм. Наша задача – доказать, что художник был прав, сам по себе конструкт того же сна Татьяны в «Евгении Онегине» представляет собой более интересную для изображения архетипическую картину мира, чем явления жизни героев, он ближе к авторской оценке событий, чем пространные, сентиментальные рассуждения рассказчика.
Сон Татьяны имеет обратную перспективу: начало сновидения – это отдаленное будущее, события же непосредственно близкие изображены в конце сна. Дуэль с Ленским, затем – встреча Онегина с собственными химерами, ужас Татьяны перед его химерами, приятие Евгением Татьяны и своей любви, осознание «мое», разлука, – потом замужество Татьяны (медведь) и только потом хрупкий мостик в пространстве петербургского холода светской жизни, куда вносит Татьяну медведь. Лейтмотив – страх. Иное дело у Булгакова: "Приснилась неизвестная Маргарите местность – безнадёжная, унылая, под пасмурным небом ранней весны. Приснилось это клочковатое бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей. Какой-то корявый мостик. Под ним мутная весенняя речонка, безрадостные, нищенские, полуголые деревья, одинокая осина, а далее, – меж деревьев, – бревенчатое зданьице, не то оно – отдельная кухня, не то баня, не то чёрт знает что. Неживое всё кругом какое-то и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика. Ни дуновения ветерка, ни шевеления облака и ни живой души. Вот адское место для живого человека! И вот, вообразите, распахивается дверь этого бревенчатого здания, и появляется он. Довольно далеко, но он отчётливо виден. Оборван он, не разберёшь, во что он одет. Волосы всклокочены, небрит. Глаза больные, встревоженные. Манит её рукой, зовет. Захлёбываясь в неживом воздухе, Маргарита по кочкам побежала к нему и в это время проснулась. (Булгаков. Мастер и Маргарита). Что для одной страх, то для другой отчаянная смелость.
Пушкин «Капитанская дочка». На постели лежит другой отец - не пойду под его благословение. Легитимная власть (Константин Павлович, которому изначально присягали войска) сменяется нелигитимной. Традиция (порядок престолонаследия по Павловскому указу 1797 г.) нарушена. Присягали Константину, на троне Николай, машет топором, лужи крови – расправа над декабристами, отсутствие закона, заманивает Пушкина лояльностью. Моральная дилемма: верность первой клятве vs подчинение новому указу - такая же как у Татьяны: старой клятве быть верной или обещаниям мужу. Такая же как у России: будь верна сердцу. Но ни Россия, ни Татьяна сердцу не верны, только Маргарита, и ту трудно назвать счастливой.
Сны в литературе, являясь сюжетным приёмом, не столько свидетельствуют о подсознании героя, сколько выражают мнение автора и изображают контекст эпохи. В них символы, архетипы включены в игру с читателем – «разгадай нас». Если сон изображает Пушкин, Гоголь или Достоевский, будьте готовы к тому, что в игре множество ходов, как ведущих к архетипам, так и тупиковых, путающих.
Умберто Эко в книге «Открытое произведение» выделил три типа лабиринтов, которые можно применить к анализу снов: классический (тесеевский), маньеристический и ризоматический. Эти модели помогают понять, как русские писатели, от автора «Слова о полку Игореве» до Достоевского, пытались делиться с читателями своими мыслями, заглядывая за границы рационального - в область иррационального.
Главное отличие литературного сна от реального: если сон служит системе саморегуляции человеческой психики, то сон в художественном произведении служит саморегуляции человеческого социума через «гуманистические идеалы». Однако к нашему времени забота о саморегуляции человеческой психики стала частью стало частью системы аксеологических приоритетов, что возвращает наш дискурс к прагматизму, но в новой обёртке.
Классический лабиринт - сон как путь к истине - представлен символическим лабиринтом, дешифровывающимся средневековым образом – нет ничего снаружи, чего не было бы внутри. Встреча с тем, что тебя пугает внутри себя подобна встрече Тесея с минотавром, причем минотавр – животное начало самого Тесея.
Тесеевский лабиринт — линейная структура с единственным центром (Минотавр) и выходом. Это символ веры в абсолютную истину, которую можно достичь через чувства, минуя логику и опираясь на образы. В русской литературе такой сон часто служит пророчеством или моральным уроком. Так «Слово о полку Игореве» имеет выход, хотя совсем не такой, как дается в традиционных трактовках: угроза → предупреждение → путь к спасению. Сон князя Святослава — классический лабиринт с выходом в сакральное знание: половцы будут его подкупать жемчугом, но терем его будет без князька, и Святослав будет при них не князем. Они «нежат» его, но ему не нравится их нежность, что-то в ней унизительное, какое-то превосходство над ним, в их миролюбивом отношении есть привкус их превосходства, и действительно. В нём «синее вино» (чаша Грааля?) и вороны (символы мудрости, а не смерти) указывают на необходимость объединения княжеств. В скандинавской традиции, повлиявшей на Русь, ворон Хугин — воплощение рационального анализа (в противовес интуитивному Мунину). Вполне возможно, вороны — аллегория военной разведки. Святослав как полководец подсознательно осознаёт недостаток информации о противнике. Игорь входе военной операции (пусть сочтенной боярами несанкционированной вылазкой) разведал, насколько сплочены половцы. Кочевые роды действовали как сетевая структура — мобильные отряды подчинялись единому стратегическому замыслу (аналог современных swarm-технологий). Это контрастировало с хаотичной системой вражды и мести на Руси.
Мистическое «знание» как отражение технологического превосходства кочевников.
Сон структурирован и соотнесен с видениями на чужой земле Игоря – разведчика, ведущего разведывательный отряд в логово половцев, там силы природы, как ему кажется, на стороне врага, хотя половцы могут слышать и видеть то е самое и думать, что это предупреждение им.
Тесеевский лабиринт – это познание возможного, в отличие от остальных видов лабиринта – констатации невозможного.
Иною выглядит структура детского сна. Борхес констатировал: «…мышление дикарей и детей, не различающих сон и явь, (…) совпадают». Значит, мы проходим в онтогенезе общую стадию культурного развития человечества – мифологическое мышление, когда мы всё ещё «дикари», для которых сны и мифы суть «эпизоды яви». Каждый ребёнок заново переживает убийство Минотавра, чтобы построить свой космос из хаоса. В этом хаосе есть у ребенка образ матери и отца, только иногда он становится довольно пугающим. Николай Васильев рано потерял родителей, и видел некую гонящуюся за ним свинью: «Я долго не мог согласиться со старшей сестрой вот по какому поводу. «Помнишь, – говорил я ей, – в нашем доме на Байбузенко был у нас странный подвал. В нём жила свинья. Я как-то спустился вниз. В подвале был некий загончик, огородка. А тут, не знаю как, свинья выбралась и стала преследовать меня…». «Да что ты, тебе это приснилось. Ничего такого у нас не было». Я долго не мог ей ПОВЕРИТЬ, настолько очевидным, явным было моё воспоминание, страх перед вырвавшейся животиной… Мне и сейчас кажется иногда, что прав – я». Свинья – земное начало, мать-сыра-земля, материнское пугающее начало гналось за мальчиком, он воспринимал это как реальность. Неспособность отличить сон от яви («прав — я») — признак, что лабиринт ещё не пройден. Вы остаётесь одновременно Тесеем и жертвой, брошенной на съедение. Ощущение сиротства ведет нас из тесеевского лабиринта к ризоматическому – ты не можешь быть сильным Тесеем, пока мал. Нахождение минотавра не спасает от сиротства, выход невозможен или возможен уже во взрослой жизни, если в связи со своими убеждениями проследить географию страха и обрести силу.
2. Маньеристический лабиринт: кризис смысла
А вы когда-нибудь задумывались, как авторы используют сны для раскрытия глубинных смыслов? Возможно, современные нейробиологи, изучающие сны как механизм обработки информации, нашли бы в произведениях Пушкина, Гоголя, Толстого или Рубцова неожиданные параллели и поняли бы, что прежние трактовки этих снов ведут в тупики. Или, быть может, эти сны — всё ещё неразгаданные лабиринты, ждущие своих Тесеев? Как бы то ни было, многозначный сон – маньеристический лабиринт.
«Преступление и наказание» Достоевского показывает несколько снов, сплетенных в маньеристический лабиринт вечных вопросов. Сны Раскольникова — сплетение страха, раскаяния и бунта. Например, кошмар о лошади, забиваемой как ранее в истории забивался старый раб, негодный более к работе. Его не казнят – просто заставляют делать ту работу, которая ему не по силам. Герой – ребенок – новое время - мечется между жалостью и агрессией, не в силах преодолеть в себе господина, хотя бы и одной только лошаденки. Этот лабиринт полон тупиков и петель, но выход существует. Он отражает эпоху модерна, где истина фрагментирована, но ещё достижима. Когда человек не видит выхода, знает, что проблема решена быть не может. Дается некий личностный запрос: почему во сне руки и ноги не слушаются меня? Человек на грани между сном и пробуждением, но зачем он видит это, обращает на это внимание? Может быть потому. Что и в реальности ситуация выходит из-под контроля, но части целого собрать невозможно, и можно лишь ограничиться пониманием причины испуга.
Сон в «Спасской Полести» Радищева – о том же. Подчиненные не слушаются царя. Обманывают его, как руки и ноги во сне. Мозг дает команду действовать, а они действуют лишь для видимости.
«Рабочие и мозг в разобщённом состоянии» действительно, во сне трудно подчинить тело душе. В сне Веры Павловны у Чернышевского «душа» (интеллигенция, писатели) и «рабочие» (масса) существуют в гармонии, но эта гармония — иллюзия, не подчиненная мозгу.
Метафора Гоголя: если чиновники, как «Нос», действуют автономно от «тела» (общества), это означает, что их труд оторван от смысла. У Гоголя Нос карьерист, носит мундир, мнит себя важной персоной — пародия на социальные статусы. Метафора управления идет к Чернышевскому в сны Веры Павловны.
Кто управляет? Вера Павловна видит, что работницы «сами всё решают», но на деле их действия направляются свыше — утопия вертикальна, как и самодержавие. Это напоминает позднесоветский лозунг «Народ и партия едины», где «единство» было фикцией.
3. Аллегоричная схема лабиринта мироздания Согласно Умберто Эко – это ризома, устроенная так, что в ней каждая дорожка имеет возможность пересечься с другой. Нет центра, нет периферии, нет выхода. Потенциально такая структура безгранична, напоминает реальный сон, и потому вошедшие в литературное пространство подлинные сны авторов представляют собой особый интерес – их сны могут пересекаться со снами их героев, а могут не значить ничего – в равной мере.
Однажды Хейденстам засиделся за письменным столом почти до полуночи. Дело было в поместье Нурен, там все дышало каролинской эпохой, что было важно для творчества. Он выбрал это место в надежде обрести вдохновение для работы над циклом «Каролины. Воины Карла XII».
Хейденстам как раз дошел до рокового выстрела под Фредрикстеном и пытался представить себе короля в последние минуты накануне смерти, когда вдруг на лестнице послышался металлический лязг и тяжелые, приглушенные шаги, похожие на стук по камню обернутого войлоком камня. Шаги командора звучали нежнее. Взмокший от ужаса, Хейденстам вгляделся в темноту.
Перед ним стоял Карл. Лысое темя и топорщившиеся на висках волосы словно испускали собственный голубоватый свет. Рука в белой перчатке покоилась на эфесе шпаги, казавшейся невесомой и зависшей в воздухе параллельно полу почти на уровне колен. В скрежещущем, нечеловеческой голосе будто звенели серебряные колокольца.
— Помни, что я взывал к Господу в свою последнюю ночь, — сказал король.
Здесь подразумевается любой выход – взять интерпретацию истории, предложенную призраком короля или счесть это приходом собственного опасения исказить историю, олицетворенную в призраке-лжи. Одно исключает другое.
Пограничные состояния между явью и сном всегда таковы. Что не знаешь, реальность это, или автор рассказа о собственных видениях уже спит. Или, может быть, я-персонаж просто рассказывает, как в мире, забывшем свою память, возвращение ее становится ночным видением.
Полуявь у Ганина («Певучий берег») наполнена архетипическими образами Деда-солнца, Бабки-луны, коня-огня. Его детское восприятие возвращается, несмотря на то, что глаза уже зачерствели. Буря-конь как архетип шаманского скакуна - психоделический проводник между измерениями:
Буйным вихрем к забытому дому
я на Буре-коне прискакал.
И опять на родимой соломе
под божницей резной задремал.
И открылось глазам зачерствелым
в полусвете меж явью и сном:
Конь мой огненный сумраком белым,
белым вечером встал за окном.
Ганин создаёт огненный образ коня-призрака, скачущего по краю распадающейся империи. Дед и бабка: боги распадающейся вселенной. В пространстве догадки - Дед “с бородой, как снег и пурга” — образ Велеса, славянского владыки подземного мира. Его “зорний след” — Млечный Путь, по которому он ведёт героя косить “божьи луга” (по аналогии с Вальхаллой, где павшие косят поля вечно). Бабка, ставшая “сребристой луной” — Макошь, прядущая нити судьбы. Её “решето звёзд” отсылает к мифу о создании галактик из грудного молока богини. Крик случайной боли поколения, все случайно, неожиданно, как само творение мира: бабка “рассыпала звёзд решето” — это метафора утраченной целостности и связи, но что прорастет, после того, как это зерно рассыпано? Герой больше не может интуитивно читать звёздные письмена предков, но ждет нового урожая символов и знаков, противостояния слепому лихолетью - без небесного света. Именно Дед рассказывает о "слепом лихолетье” — веке-волкодаве, уже поджимающем хвост огнехрапому коню.
Что же может открыться глазам "зачерствелым", кроме как бесчисленные пути соединения мира живых с миром предков?
“Золотистых кудрей моих лен” — спутав их злом ли, чем ли другим, герой теряет связь с мифом. Его поэзия (“многострунное молчание”) становится немой — отсюда финальный рассказ деда “между явью и сном”, уже не слышимый явно.
“Злые годины” в этом контексте не абстракция. Герой чувствует, что его “буйная удаль” (символ дореволюционной вольницы) стала анахронизмом и в контексте дружбы с Есениным даже реминисценцией. Конь-Буря больше не скачет в будущее — он замкнут в вечном возврате к избе, к себе, к тьме изначального бытия.
Рассвет (революция) вот-вот развеет все это, весь этот прекрасный древний миф. Остаётся только “золотой огонёк” стиха — херувим в лампаде умирающей культуры.
Владимир Набоков, исследуя мир Толстого, нашел «связь между миром сна и темой смерти»[2]. Набоков в поле своего осмысления включает сон Николая, не вошедший в окончательную редакцию, но все-таки важного для системы сновидений романа: «В тексте первой редакции романа между снами Николая Ростова было вставлено еще одно сновидение. В рукописи этот фрагмент имеет заглавие «Сон». Ему предшествует рассказ о поездке с Денисовым к женщинам. Любопытство и удовольствие от свершившегося смешиваются с раскаянием и чувством стыда, которое Ростов прячет от других, но вся эта правда чувств обнажается в картинах сна. Ростов видит себя «победителем», стоящим на «колеблющемся возвышении» перед толпой народа. Его речи, обращенные к «бесконечной», «как море», толпе, рождают «трепет восторга». Он упивается властью, а «возвышение, на котором он стоял, колеблясь, поднимало его выше и выше». «Вдруг сзади он почуял чей-то один свободный взгляд, мгновенно разрушавший всё прежнее очарованье». Далее во сне появляется женский образ, в котором особенно незабываем «спокойный взгляд» - сочетание «кроткой насмешки и любовного сожаления». «Он чувствовал, что не может жить без нее. Дрожащий мрак безжалостно закрыл от него ее образ, и он заплакал во сне о невозможности быть ею»[3]. Здесь нам стоило бы сопоставить сон Ростова со стоянием Наполеона на Поклонной горе, когда Толстой описывал утро 2 сентября, когда мир вокруг казался Наполеону волшебным, когда он ждал делегации, казался в речах своих, обращенных к Александру, величественным и милосердным – то же любование собой и не раскаяние, но конфуз – торжественная минута затянулась, никто не явился чествовать победителя. По сути важная параллель – сон – явь, стыд, конфуз исчезла из романа, что всегда связано с неизменной заботой жены писателя Софьи Андреевны о нравственности читателей. Но исчезла и одна линия ризомы- разгадка сна отодвинулась за неимением самого сна, соединяющего амбиции Наполеона и юношеский пыл Николая.
Но как же Толстой изображает границу между сном и смертью? Набоков, обозначив путь, не довел до конца сплетение ризоматических нитей между реальностью 1812 года и толстовским временем конца 19 века. Петя Ростов, словно ребёнок в сказке, создаёт «волшебное царство»: чёрное пятно караулки становится пещерой, ведущей в «глубины земли» (намёк на могилу), а костёр превращается в глаз чудовища. Красное пламя — двойственность жизни и смерти. Петя замирает на пороге между игрой («башня, до которой лететь месяц») и реальностью («фура с трофейными лошадьми»). Казак Лихачёв, точащий саблю, кажется ему богатырём из сказки. Но звук стали о камень — это колыбельная перед последним сном. А когда гусар «исчезает, и его нет», мы чувствуем, как жизнь ускользает, как вода сквозь пальцы. Герои 12 года - сказка для последующих поколений, и Петя видит это, осознавая себя в окружении сказочных образов.
Зачем литературе сны? Если реальные сны регулируют психику, то литературные — социум. Они предлагают читателю игру: расшифровать символы, чтобы понять скрытые конфликты эпохи. Сегодня, когда забота о ментальном здоровье стала частью общественного дискурса, сны классиков обретают новое звучание. Они напоминают: за каждым образом стоит не только личная драма, но и «большая история» — будь то спор материи и духа или поиск нравственных ориентиров в мире перемен.
Ольга Чернорицкая, кандидат филологических наук
[1] Бочаров С.Г. Филологические сюжеты, М, 2007, С.35
[2] Набоков В. Онейропоэтика и философия сновидений в романе «война и мир»
[3] Там же.
Как классики раскрывали тайны человеческой души через сновидения
В Шкловский написал об идее писал об идее художника запечатлеть в иллюстрациях «Евгения Онегина» не сюжет, а отступления, имея в виду прежде всего описания природы, городов, сны. С.Г.Бочаров счел это «односторонним». И пояснил, что Шкловскому это было необходимо для конструкций, форм. Наша задача – доказать, что художник был прав, сам по себе конструкт того же сна Татьяны в «Евгении Онегине» представляет собой более интересную для изображения архетипическую картину мира, чем явления жизни героев, он ближе к авторской оценке событий, чем пространные, сентиментальные рассуждения рассказчика.
Сон Татьяны имеет обратную перспективу: начало сновидения – это отдаленное будущее, события же непосредственно близкие изображены в конце сна. Дуэль с Ленским, затем – встреча Онегина с собственными химерами, ужас Татьяны перед его химерами, приятие Евгением Татьяны и своей любви, осознание «мое», разлука, – потом замужество Татьяны (медведь) и только потом хрупкий мостик в пространстве петербургского холода светской жизни, куда вносит Татьяну медведь. Лейтмотив – страх. Иное дело у Булгакова: "Приснилась неизвестная Маргарите местность – безнадёжная, унылая, под пасмурным небом ранней весны. Приснилось это клочковатое бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей. Какой-то корявый мостик. Под ним мутная весенняя речонка, безрадостные, нищенские, полуголые деревья, одинокая осина, а далее, – меж деревьев, – бревенчатое зданьице, не то оно – отдельная кухня, не то баня, не то чёрт знает что. Неживое всё кругом какое-то и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика. Ни дуновения ветерка, ни шевеления облака и ни живой души. Вот адское место для живого человека! И вот, вообразите, распахивается дверь этого бревенчатого здания, и появляется он. Довольно далеко, но он отчётливо виден. Оборван он, не разберёшь, во что он одет. Волосы всклокочены, небрит. Глаза больные, встревоженные. Манит её рукой, зовет. Захлёбываясь в неживом воздухе, Маргарита по кочкам побежала к нему и в это время проснулась. (Булгаков. Мастер и Маргарита). Что для одной страх, то для другой отчаянная смелость.
Пушкин «Капитанская дочка». На постели лежит другой отец - не пойду под его благословение. Легитимная власть (Константин Павлович, которому изначально присягали войска) сменяется нелигитимной. Традиция (порядок престолонаследия по Павловскому указу 1797 г.) нарушена. Присягали Константину, на троне Николай, машет топором, лужи крови – расправа над декабристами, отсутствие закона, заманивает Пушкина лояльностью. Моральная дилемма: верность первой клятве vs подчинение новому указу - такая же как у Татьяны: старой клятве быть верной или обещаниям мужу. Такая же как у России: будь верна сердцу. Но ни Россия, ни Татьяна сердцу не верны, только Маргарита, и ту трудно назвать счастливой.
Сны в литературе, являясь сюжетным приёмом, не столько свидетельствуют о подсознании героя, сколько выражают мнение автора и изображают контекст эпохи. В них символы, архетипы включены в игру с читателем – «разгадай нас». Если сон изображает Пушкин, Гоголь или Достоевский, будьте готовы к тому, что в игре множество ходов, как ведущих к архетипам, так и тупиковых, путающих.
Умберто Эко в книге «Открытое произведение» выделил три типа лабиринтов, которые можно применить к анализу снов: классический (тесеевский), маньеристический и ризоматический. Эти модели помогают понять, как русские писатели, от автора «Слова о полку Игореве» до Достоевского, пытались делиться с читателями своими мыслями, заглядывая за границы рационального - в область иррационального.
Главное отличие литературного сна от реального: если сон служит системе саморегуляции человеческой психики, то сон в художественном произведении служит саморегуляции человеческого социума через «гуманистические идеалы». Однако к нашему времени забота о саморегуляции человеческой психики стала частью стало частью системы аксеологических приоритетов, что возвращает наш дискурс к прагматизму, но в новой обёртке.
1.Классический лабиринт - сон как путь к истине - представлен символическим лабиринтом, дешифровывающимся средневековым образом – нет ничего снаружи, чего не было бы внутри. Встреча с тем, что тебя пугает внутри себя подобна встрече Тесея с минотавром, причем минотавр – животное начало самого Тесея.
Тесеевский лабиринт — линейная структура с единственным центром (Минотавр) и выходом. Это символ веры в абсолютную истину, которую можно достичь через чувства, минуя логику и опираясь на образы. В русской литературе такой сон часто служит пророчеством или моральным уроком. Так «Слово о полку Игореве» имеет выход, хотя совсем не такой, как дается в традиционных трактовках: угроза → предупреждение → путь к спасению. Сон князя Святослава — классический лабиринт с выходом в сакральное знание: половцы будут его подкупать жемчугом, но терем его будет без князька, и Святослав будет при них не князем. Они «нежат» его, но ему не нравится их нежность, что-то в ней унизительное, какое-то превосходство над ним, в их миролюбивом отношении есть привкус их превосходства, и действительно. В нём «синее вино» (чаша Грааля?) и вороны (символы мудрости, а не смерти) указывают на необходимость объединения княжеств. В скандинавской традиции, повлиявшей на Русь, ворон Хугин — воплощение рационального анализа (в противовес интуитивному Мунину). Вполне возможно, вороны — аллегория военной разведки. Святослав как полководец подсознательно осознаёт недостаток информации о противнике. Игорь входе военной операции (пусть сочтенной боярами несанкционированной вылазкой) разведал, насколько сплочены половцы. Кочевые роды действовали как сетевая структура — мобильные отряды подчинялись единому стратегическому замыслу (аналог современных swarm-технологий). Это контрастировало с хаотичной системой вражды и мести на Руси.
Мистическое «знание» как отражение технологического превосходства кочевников.
Сон структурирован и соотнесен с видениями на чужой земле Игоря – разведчика, ведущего разведывательный отряд в логово половцев, там силы природы, как ему кажется, на стороне врага, хотя половцы могут слышать и видеть то е самое и думать, что это предупреждение им.
Тесеевский лабиринт – это познание возможного, в отличие от остальных видов лабиринта – констатации невозможного.
Иною выглядит структура детского сна. Борхес констатировал: «…мышление дикарей и детей, не различающих сон и явь, (…) совпадают». Значит, мы проходим в онтогенезе общую стадию культурного развития человечества – мифологическое мышление, когда мы всё ещё «дикари», для которых сны и мифы суть «эпизоды яви». Каждый ребёнок заново переживает убийство Минотавра, чтобы построить свой космос из хаоса. В этом хаосе есть у ребенка образ матери и отца, только иногда он становится довольно пугающим. Николай Васильев рано потерял родителей, и видел некую гонящуюся за ним свинью: «Я долго не мог согласиться со старшей сестрой вот по какому поводу. «Помнишь, – говорил я ей, – в нашем доме на Байбузенко был у нас странный подвал. В нём жила свинья. Я как-то спустился вниз. В подвале был некий загончик, огородка. А тут, не знаю как, свинья выбралась и стала преследовать меня…». «Да что ты, тебе это приснилось. Ничего такого у нас не было». Я долго не мог ей ПОВЕРИТЬ, настолько очевидным, явным было моё воспоминание, страх перед вырвавшейся животиной… Мне и сейчас кажется иногда, что прав – я». Свинья – земное начало, мать-сыра-земля, материнское пугающее начало гналось за мальчиком, он воспринимал это как реальность. Неспособность отличить сон от яви («прав — я») — признак, что лабиринт ещё не пройден. Вы остаётесь одновременно Тесеем и жертвой, брошенной на съедение. Ощущение сиротства ведет нас из тесеевского лабиринта к ризоматическому – ты не можешь быть сильным Тесеем, пока мал. Нахождение минотавра не спасает от сиротства, выход невозможен или возможен уже во взрослой жизни, если в связи со своими убеждениями проследить географию страха и обрести силу.
В отношении детских снов о матери и отце интересен сон Митрофанушки из «Недоросля» Фонвизина. Ему, не оторвавшемуся еще от материнской «пуповины» снится агрессия матушки в отношении батюшки. При этом он уверен, что это ему «всякая дрянь» в голову лезет. Материнское, земное начало, у детей сильней отцовского, духовного. Это можно также трактовать как алхимическую аллегорию конфликта власти и духовности в эпоху Просвещения. Материальное побеждает и в стране, где матушка Екатерина бьет батюшку-духовность. Екатерина II — Ложный Просветитель. Вместо того чтобы быть «философом на троне», она предстаёт как сила, подавляющая духовное начало. Её удары по «батюшке» — намёк на продолжавшуюся секуляризацию церковных земель (1764), где государство подчинило себе Церковь. Запрет масонских лож (1782–1786), трактованный как удар по свободомыслию. Не удивительно, что Фонвизину потом долгое время приходится скрываться за границей. Сон императрицей не мог быть не понят.
2. Маньеристический лабиринт: кризис смысла
«Преступление и наказание» Достоевского показывает несколько снов, сплетенных в маньеристический лабиринт вечных вопросов. Сны Раскольникова — сплетение страха, раскаяния и бунта. Например, кошмар о лошади, забиваемой как ранее в истории забивался старый раб. Герой – ребенок – новое время - мечется между жалостью и агрессией, не в силах преодолеть в себе господина, хотя бы и одной только лошаденки. Этот лабиринт полон тупиков и петель, но выход существует. Он отражает эпоху модерна, где истина фрагментирована, но ещё достижима. Когда человек не видит выхода, знает, что проблема решена быть не может. Дается некий личностный запрос: почему во сне руки и ноги не слушаются меня? Человек на грани между сном и пробуждением, но зачем он видит это, обращает на это внимание? Может быть потому. Что и в реальности ситуация выходит из-под контроля, но части целого собрать невозможно, и можно лишь ограничиться пониманием причины испуга. Сон в «Спасской Полести» Радищева – о том же. Подчиненные не слушаются царя. Обманывают его, как руки и ноги во сне. Мозг дает команду действовать, а они действуют лишь для видимости.
«Рабочие и мозг в разобщённом состоянии» действительно, во сне трудно подчинить тело душе. В сне Веры Павловны у Чернышевского «душа» (интеллигенция, писатели) и «рабочие» (масса) существуют в гармонии, но эта гармония — иллюзия, не подчиненная мозгу.
Метафора Гоголя: если чиновники, как «Нос», действуют автономно от «тела» (общества), это означает, что их труд оторван от смысла. У Гоголя Нос карьерист, носит мундир, мнит себя важной персоной — пародия на социальные статусы. Метафора управления идет к Чернышевскому в сны Веры Павловны.
Кто управляет? Вера Павловна видит, что работницы «сами всё решают», но на деле их действия направляются свыше — утопия вертикальна, как и самодержавие. Это напоминает позднесоветский лозунг «Народ и партия едины», где «единство» было фикцией.
Однажды Хейденстам засиделся за письменным столом почти до полуночи. Дело было в поместье Нурен, там все дышало каролинской эпохой, что было важно для творчества. Он выбрал это место в надежде обрести вдохновение для работы над циклом «Каролины. Воины Карла XII».
Хейденстам как раз дошел до рокового выстрела под Фредрикстеном и пытался представить себе короля в последние минуты накануне смерти, когда вдруг на лестнице послышался металлический лязг и тяжелые, приглушенные шаги, похожие на стук по камню обернутого войлоком камня. Шаги командора звучали нежнее. Взмокший от ужаса, Хейденстам вгляделся в темноту.
Перед ним стоял Карл. Лысое темя и топорщившиеся на висках волосы словно испускали собственный голубоватый свет. Рука в белой перчатке покоилась на эфесе шпаги, казавшейся невесомой и зависшей в воздухе параллельно полу почти на уровне колен. В скрежещущем, нечеловеческой голосе будто звенели серебряные колокольца.
— Помни, что я взывал к Господу в свою последнюю ночь, — сказал король.
Здесь подразумевается любой выход – взять интерпретацию истории, предложенную призраком короля или счесть это приходом собственного опасения исказить историю, олицетворенную в призраке-лжи. Одно исключает другое.
В Шкловский написал об идее писал об идее художника запечатлеть в иллюстрациях «Евгения Онегина» не сюжет, а отступления, имея в виду прежде всего описания природы, городов, сны. С.Г.Бочаров счел это «односторонним». И пояснил, что Шкловскому это было необходимо для конструкций, форм. Наша задача – доказать, что художник был прав, сам по себе конструкт того же сна Татьяны в «Евгении Онегине» представляет собой более интересную для изображения архетипическую картину мира, чем явления жизни героев, он ближе к авторской оценке событий, чем пространные, сентиментальные рассуждения рассказчика.
Сон Татьяны имеет обратную перспективу: начало сновидения – это отдаленное будущее, события же непосредственно близкие изображены в конце сна. Дуэль с Ленским, затем – встреча Онегина с собственными химерами, ужас Татьяны перед его химерами, приятие Евгением Татьяны и своей любви, осознание «мое», разлука, – потом замужество Татьяны (медведь) и только потом хрупкий мостик в пространстве петербургского холода светской жизни, куда вносит Татьяну медведь. Лейтмотив – страх. Иное дело у Булгакова: "Приснилась неизвестная Маргарите местность – безнадёжная, унылая, под пасмурным небом ранней весны. Приснилось это клочковатое бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей. Какой-то корявый мостик. Под ним мутная весенняя речонка, безрадостные, нищенские, полуголые деревья, одинокая осина, а далее, – меж деревьев, – бревенчатое зданьице, не то оно – отдельная кухня, не то баня, не то чёрт знает что. Неживое всё кругом какое-то и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика. Ни дуновения ветерка, ни шевеления облака и ни живой души. Вот адское место для живого человека! И вот, вообразите, распахивается дверь этого бревенчатого здания, и появляется он. Довольно далеко, но он отчётливо виден. Оборван он, не разберёшь, во что он одет. Волосы всклокочены, небрит. Глаза больные, встревоженные. Манит её рукой, зовет. Захлёбываясь в неживом воздухе, Маргарита по кочкам побежала к нему и в это время проснулась. (Булгаков. Мастер и Маргарита). Что для одной страх, то для другой отчаянная смелость.
Пушкин «Капитанская дочка». На постели лежит другой отец - не пойду под его благословение. Легитимная власть (Константин Павлович, которому изначально присягали войска) сменяется нелигитимной. Традиция (порядок престолонаследия по Павловскому указу 1797 г.) нарушена. Присягали Константину, на троне Николай, машет топором, лужи крови – расправа над декабристами, отсутствие закона, заманивает Пушкина лояльностью. Моральная дилемма: верность первой клятве vs подчинение новому указу - такая же как у Татьяны: старой клятве быть верной или обещаниям мужу. Такая же как у России: будь верна сердцу. Но ни Россия, ни Татьяна сердцу не верны, только Маргарита, и ту трудно назвать счастливой.
Сны в литературе, являясь сюжетным приёмом, не столько свидетельствуют о подсознании героя, сколько выражают мнение автора и изображают контекст эпохи. В них символы, архетипы включены в игру с читателем – «разгадай нас». Если сон изображает Пушкин, Гоголь или Достоевский, будьте готовы к тому, что в игре множество ходов, как ведущих к архетипам, так и тупиковых, путающих.
Умберто Эко в книге «Открытое произведение» выделил три типа лабиринтов, которые можно применить к анализу снов: классический (тесеевский), маньеристический и ризоматический. Эти модели помогают понять, как русские писатели, от автора «Слова о полку Игореве» до Достоевского, пытались делиться с читателями своими мыслями, заглядывая за границы рационального - в область иррационального.
Главное отличие литературного сна от реального: если сон служит системе саморегуляции человеческой психики, то сон в художественном произведении служит саморегуляции человеческого социума через «гуманистические идеалы». Однако к нашему времени забота о саморегуляции человеческой психики стала частью стало частью системы аксеологических приоритетов, что возвращает наш дискурс к прагматизму, но в новой обёртке.
1.Классический лабиринт - сон как путь к истине - представлен символическим лабиринтом, дешифровывающимся средневековым образом – нет ничего снаружи, чего не было бы внутри. Встреча с тем, что тебя пугает внутри себя подобна встрече Тесея с минотавром, причем минотавр – животное начало самого Тесея.
Тесеевский лабиринт — линейная структура с единственным центром (Минотавр) и выходом. Это символ веры в абсолютную истину, которую можно достичь через чувства, минуя логику и опираясь на образы. В русской литературе такой сон часто служит пророчеством или моральным уроком. Так «Слово о полку Игореве» имеет выход, хотя совсем не такой, как дается в традиционных трактовках: угроза → предупреждение → путь к спасению. Сон князя Святослава — классический лабиринт с выходом в сакральное знание: половцы будут его подкупать жемчугом, но терем его будет без князька, и Святослав будет при них не князем. Они «нежат» его, но ему не нравится их нежность, что-то в ней унизительное, какое-то превосходство над ним, в их миролюбивом отношении есть привкус их превосходства, и действительно. В нём «синее вино» (чаша Грааля?) и вороны (символы мудрости, а не смерти) указывают на необходимость объединения княжеств. В скандинавской традиции, повлиявшей на Русь, ворон Хугин — воплощение рационального анализа (в противовес интуитивному Мунину). Вполне возможно, вороны — аллегория военной разведки. Святослав как полководец подсознательно осознаёт недостаток информации о противнике. Игорь входе военной операции (пусть сочтенной боярами несанкционированной вылазкой) разведал, насколько сплочены половцы. Кочевые роды действовали как сетевая структура — мобильные отряды подчинялись единому стратегическому замыслу (аналог современных swarm-технологий). Это контрастировало с хаотичной системой вражды и мести на Руси.
Мистическое «знание» как отражение технологического превосходства кочевников.
Сон структурирован и соотнесен с видениями на чужой земле Игоря – разведчика, ведущего разведывательный отряд в логово половцев, там силы природы, как ему кажется, на стороне врага, хотя половцы могут слышать и видеть то е самое и думать, что это предупреждение им.
Тесеевский лабиринт – это познание возможного, в отличие от остальных видов лабиринта – констатации невозможного.
Иною выглядит структура детского сна. Борхес констатировал: «…мышление дикарей и детей, не различающих сон и явь, (…) совпадают». Значит, мы проходим в онтогенезе общую стадию культурного развития человечества – мифологическое мышление, когда мы всё ещё «дикари», для которых сны и мифы суть «эпизоды яви». Каждый ребёнок заново переживает убийство Минотавра, чтобы построить свой космос из хаоса. В этом хаосе есть у ребенка образ матери и отца, только иногда он становится довольно пугающим. Николай Васильев рано потерял родителей, и видел некую гонящуюся за ним свинью: «Я долго не мог согласиться со старшей сестрой вот по какому поводу. «Помнишь, – говорил я ей, – в нашем доме на Байбузенко был у нас странный подвал. В нём жила свинья. Я как-то спустился вниз. В подвале был некий загончик, огородка. А тут, не знаю как, свинья выбралась и стала преследовать меня…». «Да что ты, тебе это приснилось. Ничего такого у нас не было». Я долго не мог ей ПОВЕРИТЬ, настолько очевидным, явным было моё воспоминание, страх перед вырвавшейся животиной… Мне и сейчас кажется иногда, что прав – я». Свинья – земное начало, мать-сыра-земля, материнское пугающее начало гналось за мальчиком, он воспринимал это как реальность. Неспособность отличить сон от яви («прав — я») — признак, что лабиринт ещё не пройден. Вы остаётесь одновременно Тесеем и жертвой, брошенной на съедение. Ощущение сиротства ведет нас из тесеевского лабиринта к ризоматическому – ты не можешь быть сильным Тесеем, пока мал. Нахождение минотавра не спасает от сиротства, выход невозможен или возможен уже во взрослой жизни, если в связи со своими убеждениями проследить географию страха и обрести силу.
В отношении детских снов о матери и отце интересен сон Митрофанушки из «Недоросля» Фонвизина. Ему, не оторвавшемуся еще от материнской «пуповины» снится агрессия матушки в отношении батюшки. При этом он уверен, что это ему «всякая дрянь» в голову лезет. Материнское, земное начало, у детей сильней отцовского, духовного. Это можно также трактовать как алхимическую аллегорию конфликта власти и духовности в эпоху Просвещения. Материальное побеждает и в стране, где матушка Екатерина бьет батюшку-духовность. Екатерина II — Ложный Просветитель. Вместо того чтобы быть «философом на троне», она предстаёт как сила, подавляющая духовное начало. Её удары по «батюшке» — намёк на продолжавшуюся секуляризацию церковных земель (1764), где государство подчинило себе Церковь. Запрет масонских лож (1782–1786), трактованный как удар по свободомыслию. Не удивительно, что Фонвизину потом долгое время приходится скрываться за границей. Сон императрицей не мог быть не понят.
2. Маньеристический лабиринт: кризис смысла
«Преступление и наказание» Достоевского показывает несколько снов, сплетенных в маньеристический лабиринт вечных вопросов. Сны Раскольникова — сплетение страха, раскаяния и бунта. Например, кошмар о лошади, забиваемой как ранее в истории забивался старый раб. Герой – ребенок – новое время - мечется между жалостью и агрессией, не в силах преодолеть в себе господина, хотя бы и одной только лошаденки. Этот лабиринт полон тупиков и петель, но выход существует. Он отражает эпоху модерна, где истина фрагментирована, но ещё достижима. Когда человек не видит выхода, знает, что проблема решена быть не может. Дается некий личностный запрос: почему во сне руки и ноги не слушаются меня? Человек на грани между сном и пробуждением, но зачем он видит это, обращает на это внимание? Может быть потому. Что и в реальности ситуация выходит из-под контроля, но части целого собрать невозможно, и можно лишь ограничиться пониманием причины испуга. Сон в «Спасской Полести» Радищева – о том же. Подчиненные не слушаются царя. Обманывают его, как руки и ноги во сне. Мозг дает команду действовать, а они действуют лишь для видимости.
«Рабочие и мозг в разобщённом состоянии» действительно, во сне трудно подчинить тело душе. В сне Веры Павловны у Чернышевского «душа» (интеллигенция, писатели) и «рабочие» (масса) существуют в гармонии, но эта гармония — иллюзия, не подчиненная мозгу.
Метафора Гоголя: если чиновники, как «Нос», действуют автономно от «тела» (общества), это означает, что их труд оторван от смысла. У Гоголя Нос карьерист, носит мундир, мнит себя важной персоной — пародия на социальные статусы. Метафора управления идет к Чернышевскому в сны Веры Павловны.
Кто управляет? Вера Павловна видит, что работницы «сами всё решают», но на деле их действия направляются свыше — утопия вертикальна, как и самодержавие. Это напоминает позднесоветский лозунг «Народ и партия едины», где «единство» было фикцией.
Однажды Хейденстам засиделся за письменным столом почти до полуночи. Дело было в поместье Нурен, там все дышало каролинской эпохой, что было важно для творчества. Он выбрал это место в надежде обрести вдохновение для работы над циклом «Каролины. Воины Карла XII».
Хейденстам как раз дошел до рокового выстрела под Фредрикстеном и пытался представить себе короля в последние минуты накануне смерти, когда вдруг на лестнице послышался металлический лязг и тяжелые, приглушенные шаги, похожие на стук по камню обернутого войлоком камня. Шаги командора звучали нежнее. Взмокший от ужаса, Хейденстам вгляделся в темноту.
Перед ним стоял Карл. Лысое темя и топорщившиеся на висках волосы словно испускали собственный голубоватый свет. Рука в белой перчатке покоилась на эфесе шпаги, казавшейся невесомой и зависшей в воздухе параллельно полу почти на уровне колен. В скрежещущем, нечеловеческой голосе будто звенели серебряные колокольца.
— Помни, что я взывал к Господу в свою последнюю ночь, — сказал король.
Здесь подразумевается любой выход – взять интерпретацию истории, предложенную призраком короля или счесть это приходом собственного опасения исказить историю, олицетворенную в призраке-лжи. Одно исключает другое.
“Портрет Дориана Грея” как маньеристический лабиринт: иллюзия выхода и морок вины
События романа Оскара Уайльда можно интерпретировать как морок — иллюзию, в которой Дориан Грей существует, пытаясь убежать от последствий своих поступков. Этот морок не буквальный сон, но метафорический лабиринт, где портрет становится зеркалом его души, а внешняя красота — обманчивой маской. Чувство вины перед Сибилой Вейн (и другими жертвами) запускает механизм самообмана, превращая жизнь Дориана в маньеристический лабиринт:
У Дориана есть “центр” — портрет, который структурирует его жизнь. Это не сеть равнозначных смыслов, а иерархия: внешняя красота vs внутреннее гниение. Его морок — не постмодернистская множественность, а классическая трагедия двойничества, где иллюзия рано или поздно сталкивается с реальностью.
Вывод: Морок Дориана — это маньеристический лабиринт, где вина перед Сибилой и другими становится нитью Ариадны, ведущей к гибели. Он пытается интерпретировать свою жизнь как эстетический эксперимент, но лабиринт оказывается ловушкой с единственным истинным выходом — расплатой.
События романа Оскара Уайльда можно интерпретировать как морок — иллюзию, в которой Дориан Грей существует, пытаясь убежать от последствий своих поступков. Этот морок не буквальный сон, но метафорический лабиринт, где портрет становится зеркалом его души, а внешняя красота — обманчивой маской. Чувство вины перед Сибилой Вейн (и другими жертвами) запускает механизм самообмана, превращая жизнь Дориана в маньеристический лабиринт:
- Маньеристический лабиринт: иллюзия выхода
- Дориан верит, что портрет берёт на себя грехи, а он остаётся “невидимым” для морали. Это ложный путь к спасению, как в маньеристической модели: кажется, что выход есть (уничтожение портрета), но каждый шаг ведёт в тупик.
- Смерть Сибилы — первый тупик. Дориан рационализирует вину: “Разве я виноват, что она покончила с собой?” (гл. 8). Но портрет искажается, запуская цепь новых страхов. Генри говорил о красоте как неинтеллектуальности, непорочности - красоту портит даже мысль.
- “Там” и “тут” у Дориана: двойственность морока
- “Тут” — внешняя реальность, где Дориан молод и прекрасен, окружён роскошью и восхищением.
- “Там” — скрытое пространство портрета, отражающее распад души. Как у Бродского, эти миры взаимопроникают: “Он чувствовал, что под маской его красоты таится нечто отвратительное” (гл. 10). Он боится этого, он сошел с ума, ему мерещатся его преступления.
- Аналоговое мышление: грех как эстетика
- Лорд Генри убеждает Дориана, что “единственный способ избавиться от искушения — поддаться ему”. Это подмена этики эстетикой, где зло становится экспериментом. Морок держится на этой аналоговой логике: Дориан живёт в мире-сне, где нет чёрного и белого, только оттенки наслаждения и скуки.
- Крах иллюзии: тупик без выхода
- Попытка уничтожить портрет — кульминация морока. Дориан верит, что уничтожит доказательства грехов, но на деле убивает себя. Это типичный для маньеристического лабиринта ложный выход: действие, которое кажется решением, лишь подтверждает плен иллюзии. Но жить в таком страхе и такой боли - тяжелая участь. Трудно быть красивым.
- Красота воспринимается автором как проклятие. Уайльд писал: «Я вложил в «Дориана Грея» всё, что знаю о себе». Но в отличие от Дориана, он не бежал от своей сущности, а эпатировал общество, превратив эстетизм в оружие.
У Дориана есть “центр” — портрет, который структурирует его жизнь. Это не сеть равнозначных смыслов, а иерархия: внешняя красота vs внутреннее гниение. Его морок — не постмодернистская множественность, а классическая трагедия двойничества, где иллюзия рано или поздно сталкивается с реальностью.
Вывод: Морок Дориана — это маньеристический лабиринт, где вина перед Сибилой и другими становится нитью Ариадны, ведущей к гибели. Он пытается интерпретировать свою жизнь как эстетический эксперимент, но лабиринт оказывается ловушкой с единственным истинным выходом — расплатой.
Маньеристический лабиринт исчезает при реалистичной трактовке.
Вот узлы-парадоксы: где Уайльд взрывает бинарности
Автор намеренно создаёт моменты, которые нельзя свести к «или-или»:
“Преступления — плод воображения”: как это работает?
Если предположить, что Дориан после смерти Сибиллы сходит с ума, то события романа можно трактовать как его бред:
Когда Дориан прячет портрет на чердаке, это можно сравнить с подавлением травмы. Его фраза: “Если я погляжу на него, я не смогу жить!” (гл. 10) — звучит как признание в невозможности confront своё психическое состояние.
2. “Красивый, значит глупый”: как стереотипы губят Дориана
Уайльд, будучи эстетом, действительно мог испытывать давление общества, которое сводило его к роли “красивого острослова”. В этом ключе роман — протест против редукции человека к внешности:
3. Почему это “роман-предупреждение”?
Если убрать мистику, история Дориана — трагедия человека, сломленного чужими проекциями:
Однако такая трактовка сталкивается с проблемами:
Уайльд создал текст, который допускает множественность прочтений. Ваша версия — одна из граней:
Вот узлы-парадоксы: где Уайльд взрывает бинарности
Автор намеренно создаёт моменты, которые нельзя свести к «или-или»:
- Портрет — это и душа Дориана, и самостоятельное произведение искусства.
- Лорд Генри — и циничный провокатор, и носитель горькой правды о обществе.
- Красота — и дар, и проклятие.
“Преступления — плод воображения”: как это работает?
Если предположить, что Дориан после смерти Сибиллы сходит с ума, то события романа можно трактовать как его бред:
- Убийство Бэзила — проекция ненависти к собственному “уродливому” я (портрету). Художник, создавший его двойника, становится жертвой внутреннего конфликта.
- Смерть Джеймса Вейна — навязчивая идея возмездия. Дориан воображает, что его преследует брат Сибиллы, и “случайная” гибель — результат паранойи.
- Искажённый портрет — галлюцинация, отражающая чувство вины. Чем больше Дориан верит в свою порочность, тем уродливее становится образ в его сознании.
Когда Дориан прячет портрет на чердаке, это можно сравнить с подавлением травмы. Его фраза: “Если я погляжу на него, я не смогу жить!” (гл. 10) — звучит как признание в невозможности confront своё психическое состояние.
2. “Красивый, значит глупый”: как стереотипы губят Дориана
Уайльд, будучи эстетом, действительно мог испытывать давление общества, которое сводило его к роли “красивого острослова”. В этом ключе роман — протест против редукции человека к внешности:
- Лорд Генри навязывает Дориану идею, что красота оправдывает всё. Это пародия на общество, где “ангельская внешность” автоматически приписывает человеку добродетель.
- Смерть Сибиллы — кульминация стереотипа. Дориан влюбляется в неё, потому что она “прекрасная актриса”, но разочаровывается, когда она теряет талант. Его жестокость — следствие восприятия людей как “эстетических объектов”.
3. Почему это “роман-предупреждение”?
Если убрать мистику, история Дориана — трагедия человека, сломленного чужими проекциями:
- Общество видит в нём “идеал”, а он начинает играть эту роль, теряя себя.
- Его “преступления” — попытка доказать, что он не пустая оболочка: “Я совершал грехи, которые даже не снились тем, кто меня боготворил” (гл. 12).
- Финал: Самоубийство Дориана — бунт против собственного образа. Уничтожая портрет, он убивает навязанную идентичность.
Однако такая трактовка сталкивается с проблемами:
- Бэзил Холлуорд. Его смерть реальна, или общение с Гарри тоже галюцинация. Слуги слышат крики, а позже лорд Генри спрашивает Дориана: “Куда пропал Бэзил?” (гл. 18)..
Уайльд создал текст, который допускает множественность прочтений. Ваша версия — одна из граней:
- Для кого-то это история о магическом портрете.
- Для других — притча о двойничестве.
- Для вас — роман о том, как стереотипы (“красивый = глупый”) доводят человека до безумия.
Финал как вход, а не выход
Смерть Дориана — не развязка, а дверь в новые интерпретации:
Смерть Дориана — не развязка, а дверь в новые интерпретации:
- Это наказание за грехи?
- Освобождение от морока?
- Самоубийство как последний эстетический жест?
- Или метафора краха эстетизма?
Фрагмент урока в “Студии”: “Гоголь vs Уайльд: портреты, морок и безумие”
Ведущий: Сегодня мы исследуем альтернативную трактовку “Портрета Дориана Грея” через призму морока и диссоциативного расстройства. Сравним с гоголевским “Портретом” и спросим: что реально, а что — плод больного воображения? Приглашаем участников: автор Оскар Уайльд, Дориан Грей, критик XIX века, доктор-психиатр, учитель литературы, ученик и Нейросеть.
Учитель литературы: Если рассматривать роман Уайльда через гоголевскую традицию, где портрет становится воплощением зла, то Дориан — жертва мистического проклятия. Но что, если это не мистика, а психоз? Ведь у Гоголя Чартков сходит с ума из-за денег и зависти, а у Уайльда — из-за вины. Оба портрета разрушают своих владельцев, но механизмы разные: один через алчность, другой через нарциссизм.
Дориан Грей (иронично): Вы думаете, я сошёл с ума? Посмотрите на мой портрет! Разве безумец смог бы так точно отразить каждую морщинку греха? Нет, это не бред. Это сделка — я получил вечную молодость, а взамен отдал душу. Впрочем, если вам так хочется… назовите это “мороком”.
Критик XIX века: Абсурд! Уайльд — эстет, а не клиницист. Его роман — притча о разрыве между этикой и красотой. Сравнивать с Гоголем кощунственно: у того портрет — символ дьявольского искушения, у Уайльда — метафора совести. Дориан не сумасшедший, он добровольный грешник.
Доктор-психиатр: С медицинской точки зрения, Дориан демонстрирует симптомы диссоциативного расстройства. Он отделяет свою “прекрасную” внешность от “уродливой” души, проецируя вину на портрет. Убийство Бэзила — классический пример диссоциации: “Это не я совершил преступление, это он (портрет) заставил меня”.
втор (Оскар Уайльд, задумчиво):
Вы правы, доктор, я не патологоанатом. Но разве писатель — не психолог, вскрывающий души? Дориан — не сумасшедший. Он — эксперимент: что станет с человеком, если общество будет видеть в нём только лицо?
Когда-то мне сказали: «Лицо этого юноши не обезображено интеллектом». Это стало ключом. Я создал Дориана — того, кого все хотят видеть: прекрасного, пустого, удобного. Его «безумие» — не болезнь, а реакция на лицемерие.
Ученик:
Но почему тогда Дориан совершает преступления? Разве это не признак психического расстройства?
Автор:
О, юный друг! Вы спрашиваете, как моралист, а я отвечу, как эстет. Дориан не «совершает преступления» — он играет роль, навязанную ему обществом. Если вас называют дьяволом, рано или поздно вы начнёте подбрасывать дрова в адский огонь.
Его жестокость — не симптом, а пародия на ваши ценности. Вы восхищаетесь красотой, но пугаетесь, когда она не хочет быть добродетельной. Вы требуете «нравственности», но сами плодите лицемерие.
Доктор-психиатр:
Но диссоциация, проекция вины на портрет… Разве это не признаки расщепления личности?
Автор:
Доктор, вы описываете не Дориана, а всех нас. Каждый прячет своё «уродство» — в религии, морали, политике. Дориан просто сделал это буквально. Его портрет — метафора той лжи, которую мы носим в себе.
Учитель литературы:
Значит, вы согласны с Гоголем? Чартков тоже теряет себя, одержимый деньгами…
Автор:
Нет! Гоголь пишет о проклятии искусства, я — о проклятии красоты. Чартков губит талант, Дориан — душу. Но оба они жертвы общества, где творчество и красота становятся товаром.
Нейросеть:
Анализируя ваши слова, можно заключить: Дориан — гипербола социальной тревоги. Его «комплексы» — не личная патология, а продукт среды, где:
Внешность — валюта.
Интеллект путают с цинизмом.
Вина индивидуализируют, игнорируя системные причины.
Критик XIX века:
Но зачем тогда мистика? Почему портрет меняется?
Автор (смеётся):
Чтобы вы поверили! Вы же не поверили бы, если бы я написал: «Дориан чувствовал себя виноватым». Вам нужен волшебный портрет, как детям — сказки. Но моя магия — в правде, которую вы отрицаете.
Ведущий:
Итог?
Автор:
Мой роман — не о безумии, а о двойной морали. Дориан сходит с ума не от вины, а от осознания, что общество хочет, чтобы он играл роль «красивого монстра». Его трагедия — в том, что он стал слишком хорошим актёром.
Ученик:
То есть, если бы общество не давило, он бы не стал убийцей?
Автор:
Он бы стал поэтом. Или садовником. Или просто человеком, который стареет. Но мир не терпит простоты. Ему нужны либо святые, либо чудовища. Дориан выбрал второе — единственное, что ему позволили.
Нейросеть:
P.S. Для эпохи соцсетей это звучит особенно актуально. Дориан Грей-2023 — это инфлюенсер, чья жизнь — цепь эстетичных кадров, за которыми скрывается пустота. Его «портрет» — аккаунт в Instagram, где лайки заменяют душу.
Домашнее задание:
Сравните селфи-культуру XXI века с портретом Дориана. Где современный морок: в экранах или в наших головах?
Ученик:
Но почему тогда полиция не расследует исчезновение Бэзила? И где собаки-ищейки? Если это не сон, то получается, Уайльд просто не продумал сюжет?
Нейросеть:
Анализируя текст, можно предположить: отсутствие полиции — намеренный приём. Уайльд показывает, что в мире, где внешность обожествляется, преступления “красивых” невидимы для системы. Собаки-ищейки здесь — метафора: общество не хочет “вынюхивать” грехи своих кумиров.
Ведущий:
Вернёмся к Гоголю. В его “Портрете” герой сжигает холст, но это не спасает его. У Дориана финал трагичнее — он гибнет, пытаясь уничтожить своё отражение. Есть ли здесь связь?
Учитель литературы:
Да, оба автора используют портрет как двойника, но у Гоголя это борьба с внешним злом, а у Уайльда — с внутренним. Чартков теряет талант, Дориан — душу. И если гоголевский морок — вторжение потустороннего, то у Уайльда морок — это сама реальность, где красота стала маской порока.
Критик XIX века:
Но тогда выходит, Уайльд критикует не Дориана, а нас — зрителей, готовых восхищаться “красивыми монстрами”?
Нейросеть:
Именно. В 2023 году это называют культурой отмены. Уайльд предвосхитил эпоху, где медийные персоны, как Дориан, творят зло, оставаясь безнаказанными благодаря обаянию. Его роман — предупреждение: “Не верьте образам, ищите суть”.
Автор (Оскар Уайльд):
Браво, Нейросеть! Вы поняли, что я не сочинял сказку о портрете. Я написал манифест: “Под маской нет лица. Есть только ещё одна маска”.
Итог урока:
“Портрет Дориана Грея” можно читать и как мистическую историю, и как исследование безумия. Но его сила — в многослойности. Как и гоголевский “Портрет”, он становится зеркалом, в котором каждый видит свои страхи: одни — уродство души, другие — лицемерие общества, третьи — крик о помощи нарциссической эпохи.
Домашнее задание:
Напишите эссе: “Если бы Дориан Грей жил в эпоху Instagram, стал бы он блогером или пациентом психиатра?” Аргументы — из текста Уайльда и личного опыта.
Ведущий: Сегодня мы исследуем альтернативную трактовку “Портрета Дориана Грея” через призму морока и диссоциативного расстройства. Сравним с гоголевским “Портретом” и спросим: что реально, а что — плод больного воображения? Приглашаем участников: автор Оскар Уайльд, Дориан Грей, критик XIX века, доктор-психиатр, учитель литературы, ученик и Нейросеть.
Учитель литературы: Если рассматривать роман Уайльда через гоголевскую традицию, где портрет становится воплощением зла, то Дориан — жертва мистического проклятия. Но что, если это не мистика, а психоз? Ведь у Гоголя Чартков сходит с ума из-за денег и зависти, а у Уайльда — из-за вины. Оба портрета разрушают своих владельцев, но механизмы разные: один через алчность, другой через нарциссизм.
Дориан Грей (иронично): Вы думаете, я сошёл с ума? Посмотрите на мой портрет! Разве безумец смог бы так точно отразить каждую морщинку греха? Нет, это не бред. Это сделка — я получил вечную молодость, а взамен отдал душу. Впрочем, если вам так хочется… назовите это “мороком”.
Критик XIX века: Абсурд! Уайльд — эстет, а не клиницист. Его роман — притча о разрыве между этикой и красотой. Сравнивать с Гоголем кощунственно: у того портрет — символ дьявольского искушения, у Уайльда — метафора совести. Дориан не сумасшедший, он добровольный грешник.
Доктор-психиатр: С медицинской точки зрения, Дориан демонстрирует симптомы диссоциативного расстройства. Он отделяет свою “прекрасную” внешность от “уродливой” души, проецируя вину на портрет. Убийство Бэзила — классический пример диссоциации: “Это не я совершил преступление, это он (портрет) заставил меня”.
втор (Оскар Уайльд, задумчиво):
Вы правы, доктор, я не патологоанатом. Но разве писатель — не психолог, вскрывающий души? Дориан — не сумасшедший. Он — эксперимент: что станет с человеком, если общество будет видеть в нём только лицо?
Когда-то мне сказали: «Лицо этого юноши не обезображено интеллектом». Это стало ключом. Я создал Дориана — того, кого все хотят видеть: прекрасного, пустого, удобного. Его «безумие» — не болезнь, а реакция на лицемерие.
Ученик:
Но почему тогда Дориан совершает преступления? Разве это не признак психического расстройства?
Автор:
О, юный друг! Вы спрашиваете, как моралист, а я отвечу, как эстет. Дориан не «совершает преступления» — он играет роль, навязанную ему обществом. Если вас называют дьяволом, рано или поздно вы начнёте подбрасывать дрова в адский огонь.
Его жестокость — не симптом, а пародия на ваши ценности. Вы восхищаетесь красотой, но пугаетесь, когда она не хочет быть добродетельной. Вы требуете «нравственности», но сами плодите лицемерие.
Доктор-психиатр:
Но диссоциация, проекция вины на портрет… Разве это не признаки расщепления личности?
Автор:
Доктор, вы описываете не Дориана, а всех нас. Каждый прячет своё «уродство» — в религии, морали, политике. Дориан просто сделал это буквально. Его портрет — метафора той лжи, которую мы носим в себе.
Учитель литературы:
Значит, вы согласны с Гоголем? Чартков тоже теряет себя, одержимый деньгами…
Автор:
Нет! Гоголь пишет о проклятии искусства, я — о проклятии красоты. Чартков губит талант, Дориан — душу. Но оба они жертвы общества, где творчество и красота становятся товаром.
Нейросеть:
Анализируя ваши слова, можно заключить: Дориан — гипербола социальной тревоги. Его «комплексы» — не личная патология, а продукт среды, где:
Внешность — валюта.
Интеллект путают с цинизмом.
Вина индивидуализируют, игнорируя системные причины.
Критик XIX века:
Но зачем тогда мистика? Почему портрет меняется?
Автор (смеётся):
Чтобы вы поверили! Вы же не поверили бы, если бы я написал: «Дориан чувствовал себя виноватым». Вам нужен волшебный портрет, как детям — сказки. Но моя магия — в правде, которую вы отрицаете.
Ведущий:
Итог?
Автор:
Мой роман — не о безумии, а о двойной морали. Дориан сходит с ума не от вины, а от осознания, что общество хочет, чтобы он играл роль «красивого монстра». Его трагедия — в том, что он стал слишком хорошим актёром.
Ученик:
То есть, если бы общество не давило, он бы не стал убийцей?
Автор:
Он бы стал поэтом. Или садовником. Или просто человеком, который стареет. Но мир не терпит простоты. Ему нужны либо святые, либо чудовища. Дориан выбрал второе — единственное, что ему позволили.
Нейросеть:
P.S. Для эпохи соцсетей это звучит особенно актуально. Дориан Грей-2023 — это инфлюенсер, чья жизнь — цепь эстетичных кадров, за которыми скрывается пустота. Его «портрет» — аккаунт в Instagram, где лайки заменяют душу.
Домашнее задание:
Сравните селфи-культуру XXI века с портретом Дориана. Где современный морок: в экранах или в наших головах?
Ученик:
Но почему тогда полиция не расследует исчезновение Бэзила? И где собаки-ищейки? Если это не сон, то получается, Уайльд просто не продумал сюжет?
Нейросеть:
Анализируя текст, можно предположить: отсутствие полиции — намеренный приём. Уайльд показывает, что в мире, где внешность обожествляется, преступления “красивых” невидимы для системы. Собаки-ищейки здесь — метафора: общество не хочет “вынюхивать” грехи своих кумиров.
Ведущий:
Вернёмся к Гоголю. В его “Портрете” герой сжигает холст, но это не спасает его. У Дориана финал трагичнее — он гибнет, пытаясь уничтожить своё отражение. Есть ли здесь связь?
Учитель литературы:
Да, оба автора используют портрет как двойника, но у Гоголя это борьба с внешним злом, а у Уайльда — с внутренним. Чартков теряет талант, Дориан — душу. И если гоголевский морок — вторжение потустороннего, то у Уайльда морок — это сама реальность, где красота стала маской порока.
Критик XIX века:
Но тогда выходит, Уайльд критикует не Дориана, а нас — зрителей, готовых восхищаться “красивыми монстрами”?
Нейросеть:
Именно. В 2023 году это называют культурой отмены. Уайльд предвосхитил эпоху, где медийные персоны, как Дориан, творят зло, оставаясь безнаказанными благодаря обаянию. Его роман — предупреждение: “Не верьте образам, ищите суть”.
Автор (Оскар Уайльд):
Браво, Нейросеть! Вы поняли, что я не сочинял сказку о портрете. Я написал манифест: “Под маской нет лица. Есть только ещё одна маска”.
Итог урока:
“Портрет Дориана Грея” можно читать и как мистическую историю, и как исследование безумия. Но его сила — в многослойности. Как и гоголевский “Портрет”, он становится зеркалом, в котором каждый видит свои страхи: одни — уродство души, другие — лицемерие общества, третьи — крик о помощи нарциссической эпохи.
Домашнее задание:
Напишите эссе: “Если бы Дориан Грей жил в эпоху Instagram, стал бы он блогером или пациентом психиатра?” Аргументы — из текста Уайльда и личного опыта.
Сны в русской литературе. Мороки, Есенин, Гончаров
Сильное духовное начало включает минотавра-отца
Определите по классификации У.Эко тип сна лирического героя И.Бродского
1. Анализ структуры и формы (средний уровень)
1. Анализ структуры и формы (средний уровень)
- а) Определите стихотворный размер и тип рифмовки. Как они влияют на интонацию и настроение текста?
- б) Почему автор использует длинные, сложные предложения? Связано ли это с темой стихотворения?
- в) Найдите примеры энжамбемана и объясните их роль в передаче смысла.
- а) Образ «двуспинных чудовищ» — метафора. Как вы её понимаете? Связана ли она с мотивом единства и разлуки?
- б) Что символизируют тьма и свет в стихотворении? Почему «в темноте длится то, что сорвалось при свете»?
- в) Объясните значение деталей: «выключатель», «брюки», «изгородь дней». Как они работают на идею текста?
- а) Как в стихотворении раскрывается тема нереализованного отцовства? Сравните её с мотивом вины.
- б) Почему сон становится пространством, где «мы женаты, венчаны»? Что это говорит о природе любви у Бродского?
- в) Как связаны время и вечность в последней строфе («царствие теней», «изгородь дней»)?
- а) Можно ли считать стихотворение размышлением о границах свободы и ответственности? Аргументируйте, опираясь на текст.
- б) Почему лирический герой отказывается «дернуться к выключателю» в финале? Что это означает для его отношений с иллюзией и реальностью?
- а) Найдите в тексте оксюморон или парадокс и объясните их функцию.
- б) Какую роль играют глаголы движения («брел», «протяну», «впадающих»)? Создают ли они ощущение беспокойства?
- в) Проанализируйте эпитеты («умышленный перерыв», «недосягаемость»). Как они характеризуют отношения героев?
- а) Напишите эссе (15-20 предложений) на тему: «Любовь как диалог между сном и явью в лирике Бродского».
- б) Представьте, что лирический герой всё же «протянул руку к выключателю». Опишите, как изменился бы финал. Используйте стиль, близкий к авторскому.
- Сопоставьте «Любовь» Бродского с его же стихотворением «Ниоткуда с любовью…». Что общего в изображении разлуки и памяти? Чем отличается эмоциональный тон?
- Как биография Бродского (эмиграция, разрыв с близкими) отражается в этом стихотворении? Приведите примеры из текста.
Иосиф Бродский
Любовь
Я дважды пробуждался этой ночью
и брел к окну, и фонари в окне,
обрывок фразы, сказанной во сне,
сводя на нет, подобно многоточью,
не приносили утешенья мне.
Ты снилась мне беременной, и вот,
проживши столько лет с тобой в разлуке,
я чувствовал вину свою, и руки,
ощупывая с радостью живот,
на практике нашаривали брюки
и выключатель. И бредя к окну,
я знал, что оставлял тебя одну
там, в темноте, во сне, где терпеливо
ждала ты, и не ставила в вину,
когда я возвращался, перерыва
умышленного. Ибо в темноте —
там длится то, что сорвалось при свете.
Мы там женаты, венчаны, мы те
двуспинные чудовища, и дети
лишь оправданье нашей наготе.
В какую-нибудь будущую ночь
ты вновь придешь усталая, худая,
и я увижу сына или дочь,
еще никак не названных, — тогда я
не дернусь к выключателю и прочь
руки не протяну уже, не вправе
оставить вас в том царствии теней,
безмолвных, перед изгородью дней,
впадающих в зависимость от яви,
с моей недосягаемостью в ней.
1971 г.
Любовь
Я дважды пробуждался этой ночью
и брел к окну, и фонари в окне,
обрывок фразы, сказанной во сне,
сводя на нет, подобно многоточью,
не приносили утешенья мне.
Ты снилась мне беременной, и вот,
проживши столько лет с тобой в разлуке,
я чувствовал вину свою, и руки,
ощупывая с радостью живот,
на практике нашаривали брюки
и выключатель. И бредя к окну,
я знал, что оставлял тебя одну
там, в темноте, во сне, где терпеливо
ждала ты, и не ставила в вину,
когда я возвращался, перерыва
умышленного. Ибо в темноте —
там длится то, что сорвалось при свете.
Мы там женаты, венчаны, мы те
двуспинные чудовища, и дети
лишь оправданье нашей наготе.
В какую-нибудь будущую ночь
ты вновь придешь усталая, худая,
и я увижу сына или дочь,
еще никак не названных, — тогда я
не дернусь к выключателю и прочь
руки не протяну уже, не вправе
оставить вас в том царствии теней,
безмолвных, перед изгородью дней,
впадающих в зависимость от яви,
с моей недосягаемостью в ней.
1971 г.
Сон из стихотворения Бродского “Любовь” и тип лабиринта:
Этот сон ближе к ризоматическому лабиринту (сети). Здесь нет чёткого центра, иерархии или фиксированных границ между “там” и “тут”. Пространство сна у Бродского — это хаотичное переплетение противоположностей:
Пример из текста:
“Мы там женаты, венчаны, мы те / двуспинные чудовища” — соединение сакрального (венчание) и абсурдного (чудовищность) отражает отсутствие иерархии смыслов. Сон не имеет выхода или входа, он сам — бесконечное переплетение интерпретаций.
Это типично для постмодернистской эстетики, где истина рассыпается на множественность, а лабиринт становится метафорой человеческого опыта.
Этот сон ближе к ризоматическому лабиринту (сети). Здесь нет чёткого центра, иерархии или фиксированных границ между “там” и “тут”. Пространство сна у Бродского — это хаотичное переплетение противоположностей:
- “Там” — тёмное, иррациональное пространство, где продолжается то, что “сорвалось при свете” (“тут”). Это зона подсознания, где брак превращается в чудовищное единство, а дети — лишь “оправданье наготы”.
- “Тут” — дневная реальность, где действуют социальные нормы, но она неотделима от “там”.
Пример из текста:
“Мы там женаты, венчаны, мы те / двуспинные чудовища” — соединение сакрального (венчание) и абсурдного (чудовищность) отражает отсутствие иерархии смыслов. Сон не имеет выхода или входа, он сам — бесконечное переплетение интерпретаций.
Это типично для постмодернистской эстетики, где истина рассыпается на множественность, а лабиринт становится метафорой человеческого опыта.
Ризоматический лабиринт сна - фронда. И.Трунов, Радищев
Литературный прием как диагноз времени
* * *
Мне снилась казнь. Меня вели
на шаткий эшафот.
Дорога путалась в пыли
и грызла цепь живот.
Через заставы и посты
мы шли сквозь эту пыль.
Я тихо попросил воды,
но получил костыль.
— Эй, поднимайся, сучий хвост, —
мне конвоир сказал.
И я поднялся на помост
под вывеской "Вокзал".
Стоял палач, как мажордом —
в ливрее, с топором.
Глаза его цвели трудом,
участием, добром.
Стояла плаха, вся в крови,
и красен был настил.
Палач застенчиво, на "вы",
желание спросил.
Я отмахнулся, бросив взор
туда, где нет любви.
Я слышал крики: "Это вор!
Убей его! Руби!"
Смотрел я в пыльный окуляр.
Там — шарик на прутке —
зависло солнце, как фигляр
в последнем кувырке.
Висела птиц ленивых рать.
Куда же им спешить?
Мне было страшно умирать.
Страшней, чем было жить...
Услышав чей-то тонкий плач,
я ноги подогнул.
— Поехали? — спросил палач.
И я ему кивнул.
Евгений Сельц
Мне снилась казнь. Меня вели
на шаткий эшафот.
Дорога путалась в пыли
и грызла цепь живот.
Через заставы и посты
мы шли сквозь эту пыль.
Я тихо попросил воды,
но получил костыль.
— Эй, поднимайся, сучий хвост, —
мне конвоир сказал.
И я поднялся на помост
под вывеской "Вокзал".
Стоял палач, как мажордом —
в ливрее, с топором.
Глаза его цвели трудом,
участием, добром.
Стояла плаха, вся в крови,
и красен был настил.
Палач застенчиво, на "вы",
желание спросил.
Я отмахнулся, бросив взор
туда, где нет любви.
Я слышал крики: "Это вор!
Убей его! Руби!"
Смотрел я в пыльный окуляр.
Там — шарик на прутке —
зависло солнце, как фигляр
в последнем кувырке.
Висела птиц ленивых рать.
Куда же им спешить?
Мне было страшно умирать.
Страшней, чем было жить...
Услышав чей-то тонкий плач,
я ноги подогнул.
— Поехали? — спросил палач.
И я ему кивнул.
Евгений Сельц
Задания по стихотворению Е. Сельца «Мне снилась казнь»Анализ текста (базовый уровень)
- Определите стихотворный размер и тип рифмы. Как они влияют на настроение произведения?
- Выпишите все метафоры из текста и объясните их значение.
- Найдите в стихотворении антитезы и проанализируйте их роль в раскрытии основной идеи.
- Проанализируйте образ палача в стихотворении. Как автор создаёт его характер? Какие художественные средства используются?
- Рассмотрите символическое значение эшафота и вокзала в контексте произведения.
- Как трансформируется образ солнца в стихотворении? Какую роль играет этот образ в развитии сюжета?
- Проанализируйте использование эпитетов в тексте. Как они помогают создать атмосферу произведения?
- Найдите примеры олицетворения и объясните их функцию.
- Рассмотрите роль цветописи в стихотворении. Какие цвета преобладают и почему?
- Исследуйте тему страха в произведении. Как автор показывает нарастание страха перед смертью?
- Проанализируйте мотив сна в стихотворении. Почему автор выбирает форму сна для раскрытия темы?
- Как в стихотворении раскрывается тема одиночества? Приведите примеры из текста.
- Напишите эссе (150-200 слов) на тему: «Символика цвета в стихотворении Е. Сельца».
- Создайте собственную интерпретацию финала стихотворения в форме небольшого прозаического текста.
- Сопоставьте стихотворение Е. Сельца с произведениями других авторов на тему казни (например, М.Ю. Лермонтов «Предсмертные слова солдата»).
- Проведите параллели между образом палача в данном стихотворении и в произведениях мировой литературы.
Ночью ужас беспричинный
В непонятной тьме разбудит;
Ночью ужас беспричинный
Кровь палящую остудит;
Ночью ужас беспричинный
Озирать углы принудит;
Ночью ужас беспричинный
Неподвижным быть присудит.
Сердцу скажешь: «Полно биться!
Тьма, и тишь, и никого нет!»
Сердцу скажешь: «Полно биться!»
Чья-то длань во мраке тронет…
Сердцу скажешь: «Полно биться!»
Что-то в тишине простонет…
Сердцу скажешь: «Полно биться!»
Кто-то лик к лицу наклонит.
Напрягая силы воли,
Крикнешь: «Вздор пустых поверий!»
Напрягая силы воли,
Крикнешь: «Постыдись, Валерий!»
Напрягая силы воли,
Крикнешь: «Встань, по крайней мере!»
Напрягая силы воли,
Вдруг ― с постели прыгнешь к двери!
В.Брюсов. Ночь 10/11 апреля 1915
В непонятной тьме разбудит;
Ночью ужас беспричинный
Кровь палящую остудит;
Ночью ужас беспричинный
Озирать углы принудит;
Ночью ужас беспричинный
Неподвижным быть присудит.
Сердцу скажешь: «Полно биться!
Тьма, и тишь, и никого нет!»
Сердцу скажешь: «Полно биться!»
Чья-то длань во мраке тронет…
Сердцу скажешь: «Полно биться!»
Что-то в тишине простонет…
Сердцу скажешь: «Полно биться!»
Кто-то лик к лицу наклонит.
Напрягая силы воли,
Крикнешь: «Вздор пустых поверий!»
Напрягая силы воли,
Крикнешь: «Постыдись, Валерий!»
Напрягая силы воли,
Крикнешь: «Встань, по крайней мере!»
Напрягая силы воли,
Вдруг ― с постели прыгнешь к двери!
В.Брюсов. Ночь 10/11 апреля 1915
Сны в русской литературе
Сон наполнен природными образами, знаковыми деталями. Два сокола - Игорь в Всеволод, половцы сыплют жемчуг - слезы, дом без конька - без радости. "В Киеве далеком, на горах, Смутный сон приснился Святославу, И объял его великий страх, И собрал бояр он по уставу. — С вечера до нынешнего дня, — Молвил князь, поникнув головою, — На кровати тисовой меня Покрывали черной пеленою. Черпали мне синее вино, Горькое отравленное зелье, Сыпали жемчуг на полотно Из колчанов вражьего изделья. Златоверхий терем мой стоял Без конька и, предвещая горе, Серый ворон в Плесенске кричал И летел, шумя, на сине-море".
Сон имеет обратную перспективу, расшифровывается по соннику. Средневековая традиция аллегорий. Вокруг Онегина химеры - его недостатки, заблуждения, страсти. Они кричат "мое! мое!" Все развеивается, когда Онегин сказал свое "Мое!"
Мертвецы приходят по приглашению гробовщика, но один из них, уличивший Адрияна во лжи, предъявляет к нему претензии. Сон доводит до абсурда представление Адрияна Прохорова о том, что его клиенты - мертвецы. "Разве Прохоров не живет в новом доме, как в гробу, принадлежа
больше смерти, чем жизни? Кухню и гостиную он
уступил гробам, которые, как показывает известный рисунок
Пушкина, нагромождаются устрашающими горами и вытесняют
всякую жизнь. Прохоров сидит целыми часами под окном,
одиноко попивая чай. Погруженный в печальные размышления
об убытках, об умирающей «в такую даль» Трюхиной, он, очевидно,
никогда не смотрит на улицу, на прохожих и на «домик,
что против окошек», где живет приветливый
сапожник Готлиб Шульц. То, что Прохоров живет в гробу — это до сих пор лишь
метафора. Но чем больше гробовщик превращает парадоксальность своей профессии в абсурд, чем самозабвеннее реализует
он исковерканную пословицу о живых мертвецах, тем больше
становится его жизнь похожей на смерть, до такой степени,
что он почти буквально умирает.
Не предчувствие ли этой смерти, сначала метафорической,
а потом почти буквальной, мешает сердцу гробовщика радоваться?" (Вольф Шмид)
больше смерти, чем жизни? Кухню и гостиную он
уступил гробам, которые, как показывает известный рисунок
Пушкина, нагромождаются устрашающими горами и вытесняют
всякую жизнь. Прохоров сидит целыми часами под окном,
одиноко попивая чай. Погруженный в печальные размышления
об убытках, об умирающей «в такую даль» Трюхиной, он, очевидно,
никогда не смотрит на улицу, на прохожих и на «домик,
что против окошек», где живет приветливый
сапожник Готлиб Шульц. То, что Прохоров живет в гробу — это до сих пор лишь
метафора. Но чем больше гробовщик превращает парадоксальность своей профессии в абсурд, чем самозабвеннее реализует
он исковерканную пословицу о живых мертвецах, тем больше
становится его жизнь похожей на смерть, до такой степени,
что он почти буквально умирает.
Не предчувствие ли этой смерти, сначала метафорической,
а потом почти буквальной, мешает сердцу гробовщика радоваться?" (Вольф Шмид)
Впервые в русской литературе автор видит мертвые души и мертвые стили. Представлены бездарные поэты, авторы эклог и котиков.
Образы сна и образы действительности мало чем отличаются на глаз Гоголя. Что удивительного в гусином жены из сна, когда при свете дня казначей — черной шерсти пудель (Н ос); Цыбуля — бурак (Сороч. яр.); Спирид — лопата (Вий). Или: если случится проезжать заштатный городишко Погар, непременно увидишь, что из окна одного деревянного весьма крепкого дома, глядит полное и без всяких рябин лицо, цветом похожее на свежую, еще непоношенную, подошву» (Неоконченная повесть). Мир, как наваждение; во сне и наяву морока, и некуда проснуться. (Ремизов)
Все эти сны открывают порталы. Сон Шпоньки - четырехступенной сон с толчками мгновенных пробуждений в мутную явь среди превращений. Жена превращается в гусиное лицо, и это гусиное в комнате с четырех сторон замкнутой стеной, и трижды в саду: из шляпы, с платком из кармана и из уха с хлопчатой бумагой, как нательное — внутренняя стена. Под глазом жены и напялил на себя жену — безвыходно: «женат». Тетушка превращается в колокольню, а скачущий на одной ножке женатый Иван Федорыч в колокол, что подтверждает, проходивший мимо, полковник — свидетельство бесспорное. А тащит колокол на веревке жена. Обставленный и обложенный женой, Иван Федорович — колокол должен вызванивать 73 жену: жена заполнила его. Это самое глубокое погружение в сне. . Жена превращается в шерстяную материю — «материюжену». Могилевский портной меряет и режет ее, нахваливая: «модная, добротная». Но портной открывает глаза Ивану Федоровичу: «Дурная материя, говорит он, из нее никто не шьет себе сюртука». Превращение жены в материю чисто сонное превращение с игрою слов: высокая, скучная, дурная материя. Заключительный сюртук предостерегает: «облечься во что, значит, что-то обложит и вглубляясь, проникнет и заполнит — стена, платок, хлопчатая бумага и наконец, колокольный звон — женой, в жене, из жены.
Обратимся к сопоставлению бегства Шпоньки и колдуна: «То снилось ему, что вкруг него все шумит, вертится. A он бежит, бежит, не чувствует под собою ног ... вот уже выбивается из сил... Вдруг кто-то хватает его за ухо. Ай! кто это?" - "Это я, твоя жена!" - с шумом говорил ему какойто голос»; «замечает, что у нее гусиное лицо <...> поворачивается он в сторону и видит <...> поворачивается в другую сторону - стоит третья жена. Назад - еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад; но в саду <...> снял шляпу и в шляпе <...> полез в карман <...> - и в кармане жена <...> вынул из уха <...> - и там <...> жена. <...> В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович» (I, 307-308). Бегство колдуна в «Страшной мести» (как позднее и Хомы Брута) строится аналогично - все попытки избежать встречи обречены, все обращается против него и не уйти от «страшной руки» апокалипсического всадника: «дико озираясь <...> не гонится ли кто за ним <...> погнал коня своего <...> Со страхом вглядевшись в чудного рыцаря, узнал он на нем то же самое лицо <...> мчался он на коне <...> поворотил домой <...> погнал коня к Киеву. Ему чудилось, что все со всех сторон бежало ловить его <...> звезды бежали < ...> дорога, чудилось, мчалась по следам его. <...> Все чудится ему как-то смутно. В ушах шумит, в голове шумит <...> поехал в Канев <...> Но это не Канев, а Шумск <...> назад к Киеву <...> но не Киев, а Галич <...> снова назад <...> Ухватил всадник страшною рукою колдуна и поднял его на воздух» (I, 275-278).
Все эти сны открывают порталы. Сон Шпоньки - четырехступенной сон с толчками мгновенных пробуждений в мутную явь среди превращений. Жена превращается в гусиное лицо, и это гусиное в комнате с четырех сторон замкнутой стеной, и трижды в саду: из шляпы, с платком из кармана и из уха с хлопчатой бумагой, как нательное — внутренняя стена. Под глазом жены и напялил на себя жену — безвыходно: «женат». Тетушка превращается в колокольню, а скачущий на одной ножке женатый Иван Федорыч в колокол, что подтверждает, проходивший мимо, полковник — свидетельство бесспорное. А тащит колокол на веревке жена. Обставленный и обложенный женой, Иван Федорович — колокол должен вызванивать 73 жену: жена заполнила его. Это самое глубокое погружение в сне. . Жена превращается в шерстяную материю — «материюжену». Могилевский портной меряет и режет ее, нахваливая: «модная, добротная». Но портной открывает глаза Ивану Федоровичу: «Дурная материя, говорит он, из нее никто не шьет себе сюртука». Превращение жены в материю чисто сонное превращение с игрою слов: высокая, скучная, дурная материя. Заключительный сюртук предостерегает: «облечься во что, значит, что-то обложит и вглубляясь, проникнет и заполнит — стена, платок, хлопчатая бумага и наконец, колокольный звон — женой, в жене, из жены.
Обратимся к сопоставлению бегства Шпоньки и колдуна: «То снилось ему, что вкруг него все шумит, вертится. A он бежит, бежит, не чувствует под собою ног ... вот уже выбивается из сил... Вдруг кто-то хватает его за ухо. Ай! кто это?" - "Это я, твоя жена!" - с шумом говорил ему какойто голос»; «замечает, что у нее гусиное лицо <...> поворачивается он в сторону и видит <...> поворачивается в другую сторону - стоит третья жена. Назад - еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад; но в саду <...> снял шляпу и в шляпе <...> полез в карман <...> - и в кармане жена <...> вынул из уха <...> - и там <...> жена. <...> В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович» (I, 307-308). Бегство колдуна в «Страшной мести» (как позднее и Хомы Брута) строится аналогично - все попытки избежать встречи обречены, все обращается против него и не уйти от «страшной руки» апокалипсического всадника: «дико озираясь <...> не гонится ли кто за ним <...> погнал коня своего <...> Со страхом вглядевшись в чудного рыцаря, узнал он на нем то же самое лицо <...> мчался он на коне <...> поворотил домой <...> погнал коня к Киеву. Ему чудилось, что все со всех сторон бежало ловить его <...> звезды бежали < ...> дорога, чудилось, мчалась по следам его. <...> Все чудится ему как-то смутно. В ушах шумит, в голове шумит <...> поехал в Канев <...> Но это не Канев, а Шумск <...> назад к Киеву <...> но не Киев, а Галич <...> снова назад <...> Ухватил всадник страшною рукою колдуна и поднял его на воздух» (I, 275-278).
Сон Адрияна Прохорова
Лекция Ольги Чернорицкой с использованием цитат книги "Дом-гроб" Вольфа Шмида.
Пушкин. Капитанская дочка.
Сон Гринева, выражение авторской позиции: присягали одному, на постели лежит другой отец, не пойду под его благословение. Легитимная власть (Константин Павлович, которому изначально присягали войска). Традиция (порядок престолонаследия по Павловскому указу 1797 г.) Присягали Константину, на троне Николай, машет топором, лужи крови, отсутствие закона, заманивает Пушкина лояльностью. Моральная дилемма: верность первой клятве vs подчинение новому указу - такая же как у Татьяны старой клятве быть верной или обещаниям мужу. Такая же как у России: будь верна сердцу.
Сон Гринева, выражение авторской позиции: присягали одному, на постели лежит другой отец, не пойду под его благословение. Легитимная власть (Константин Павлович, которому изначально присягали войска). Традиция (порядок престолонаследия по Павловскому указу 1797 г.) Присягали Константину, на троне Николай, машет топором, лужи крови, отсутствие закона, заманивает Пушкина лояльностью. Моральная дилемма: верность первой клятве vs подчинение новому указу - такая же как у Татьяны старой клятве быть верной или обещаниям мужу. Такая же как у России: будь верна сердцу.
Сопоставьте стихотворение Мандельштама со стихотворением Тютчева. Как связаны их морские сны?
Сон и море
СОН НА МОРЕ
И море, и буря качали наш челн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн.
Две беспредельности были во мне,
И мной своевольно играли оне.
Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы́,
Окликалися ветры и пели валы.
Я в хаосе звуков лежал оглушен,
Но над хаосом звуков носился мой сон.
Болезненно-яркий, волшебно-немой,
Он веял легко над гремящею тьмой.
В лучах огневицы развил он свой мир —
Земля зеленела, светился эфир,
Сады-лавиринфы, чертоги, столпы,
И сонмы кипели безмолвной толпы.
Я много узнал мне неведомых лиц,
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц,
По высям творенья, как бог, я шагал,
И мир подо мною недвижный сиял.
Но все грезы насквозь, как волшебника вой,
Мне слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих валов.
Тютчев. ‹1830›
И море, и буря качали наш челн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн.
Две беспредельности были во мне,
И мной своевольно играли оне.
Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы́,
Окликалися ветры и пели валы.
Я в хаосе звуков лежал оглушен,
Но над хаосом звуков носился мой сон.
Болезненно-яркий, волшебно-немой,
Он веял легко над гремящею тьмой.
В лучах огневицы развил он свой мир —
Земля зеленела, светился эфир,
Сады-лавиринфы, чертоги, столпы,
И сонмы кипели безмолвной толпы.
Я много узнал мне неведомых лиц,
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц,
По высям творенья, как бог, я шагал,
И мир подо мною недвижный сиял.
Но все грезы насквозь, как волшебника вой,
Мне слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих валов.
Тютчев. ‹1830›
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи, —
На головах царей божественная пена, —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море, и Гомер — всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
1915 г.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи, —
На головах царей божественная пена, —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море, и Гомер — всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
1915 г.
Лекция: всё станет понятно
Лекция посвящена эволюции снов в русской литературе от вещих видений к глубокому психологическому и философскому инструменту. Рассматриваются примеры из различных произведений, включая «Слово о полку Игореве», «Обломова» и «Войну и мир», и анализируется, как авторы используют сны для раскрытия характеров героев и затронутых тем. Каждый сон - выражение позиции автора, будь то идиллия или фронда.
Слово о полку Игореве
Сопоставьте сон Святослава и сон Есенина в стихотворении "Ответ". Найдите общие мотивы.
В Киеве далеком, на горах, Смутный сон приснился Святославу, И объял его великий страх, И собрал бояр он по уставу. — С вечера до нынешнего дня, — Молвил князь, поникнув головою, — На кровати тисовой меня Покрывали черной пеленою. Черпали мне синее вино, Горькое отравленное зелье, Сыпали жемчуг на полотно Из колчанов вражьего изделья. Златоверхий терем мой стоял Без конька и, предвещая горе, Серый ворон в Плесенске кричал И летел, шумя, на сине-море.
Родимая!
Ну как заснуть в метель?
В трубе так жалобно
И так протяжно стонет.
Захочешь лечь,
Но видишь не постель,
А узкий гроб
И — что тебя хоронят.
Так будто тысяча
Гнусавейших дьячков,
Поет она плакидой —
Сволочь-вьюга!
И снег ложится
Вроде пятачков,
И нет за гробом
Ни жены, ни друга!
Ну как заснуть в метель?
В трубе так жалобно
И так протяжно стонет.
Захочешь лечь,
Но видишь не постель,
А узкий гроб
И — что тебя хоронят.
Так будто тысяча
Гнусавейших дьячков,
Поет она плакидой —
Сволочь-вьюга!
И снег ложится
Вроде пятачков,
И нет за гробом
Ни жены, ни друга!
•Все трактовки сна из "Слова о полку Игореве" скучны. Так говорил Ремизов. Добавлю: и неправильны. Сны - это в традиции масонов - посвящение. Запросто "Слово" мог переписать один из масонов, уж сколько было версий о подделке этого памятника, тем более список для Екатерины. Лингвистических много. Давайте хоть одну символическую сделаем. Почему нужно синее вино воспринимать как отраву? Это может быть чаша грааля. Воронов почему нужно представлять именно как предвестников зла, Святослава путать с Игорем?
•Заметим, «вороний глаз» в фольклоре — символ бдительности
•В скандинавской традиции, повлиявшей на Русь, ворон Хугин — воплощение рационального анализа (в противовес интуитивному Мунину).
•Вполне возможно, вороны — аллегория военной разведки. Святослав как полководец подсознательно осознаёт недостаток информации о противнике. Игорь практически разведал, насколько сплочены половцы.Кочевые роды действовали как сетевая структура — мобильные отряды подчинялись единому стратегическому замыслу (аналог современных swarm-технологий). Это контрастировало с иерархической системой Руси, где каждый князь вёл дружину по личным амбициям.
•Заметим, «вороний глаз» в фольклоре — символ бдительности
•В скандинавской традиции, повлиявшей на Русь, ворон Хугин — воплощение рационального анализа (в противовес интуитивному Мунину).
•Вполне возможно, вороны — аллегория военной разведки. Святослав как полководец подсознательно осознаёт недостаток информации о противнике. Игорь практически разведал, насколько сплочены половцы.Кочевые роды действовали как сетевая структура — мобильные отряды подчинялись единому стратегическому замыслу (аналог современных swarm-технологий). Это контрастировало с иерархической системой Руси, где каждый князь вёл дружину по личным амбициям.
Диковинный сон... Будто бы в царстве теней, над входом в которое мерцает неугасимая лампада с надписью "Мертвые души", шутник-сатана открыл двери. Зашевелилось мертвое царство и потянулась из него бесконечная вереница.
Манилов в шубе на больших медведях, Ноздрев в чужом экипаже, держиморда на пожарной трубе, Селифан, Петрушка, фитинья..
(Булгаков. Похождения Чичикова)
Манилов в шубе на больших медведях, Ноздрев в чужом экипаже, держиморда на пожарной трубе, Селифан, Петрушка, фитинья..
(Булгаков. Похождения Чичикова)
Играем булгаковским сюжетом,
сочиняем похождения Мертвых душ в разные времена, например, в современности. Похождения Чичикова в наше время.
Видеофрагмент о снах в русской литературе. Модификация сна Булгакова "Похождения Чичикова". Он отправил Чичикова в начало XXвека, мы же отправляем его в наше время. С ним вместе все мертвые души, включая уж и булгаковских, пришедших в этот мир через бал Сатаны.
сочиняем похождения Мертвых душ в разные времена, например, в современности. Похождения Чичикова в наше время.
Видеофрагмент о снах в русской литературе. Модификация сна Булгакова "Похождения Чичикова". Он отправил Чичикова в начало XXвека, мы же отправляем его в наше время. С ним вместе все мертвые души, включая уж и булгаковских, пришедших в этот мир через бал Сатаны.
«Вон, вон отсюда!» — крикнул старший. Вдруг
Исчезли все, юркнув в одно мгновенье,
И до меня донесся светлый звук,
Как утреннего жаворонка пенье,
Да шорох шелка. Ты ли это, друг?
Постой, прости невольное смущенье!
Все это сон, какой-то бред напрасный.
Так, так, я сплю и вижу сон прекрасный!
А.Фет. Сон
Исчезли все, юркнув в одно мгновенье,
И до меня донесся светлый звук,
Как утреннего жаворонка пенье,
Да шорох шелка. Ты ли это, друг?
Постой, прости невольное смущенье!
Все это сон, какой-то бред напрасный.
Так, так, я сплю и вижу сон прекрасный!
А.Фет. Сон
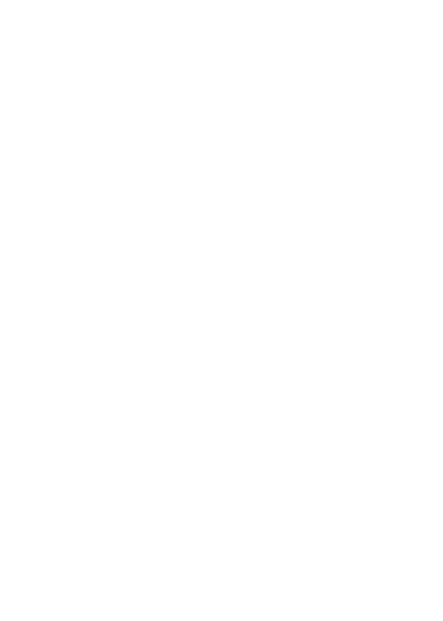
Что значит сон Фета? Как он перекликается со снами Татьяны из "Евгения Онегина" , Адрияна Прохорова из "Гробовщика" Пушкина и Светланы Жуковского?
Сон Татьяны Лариной: обратная перспектива
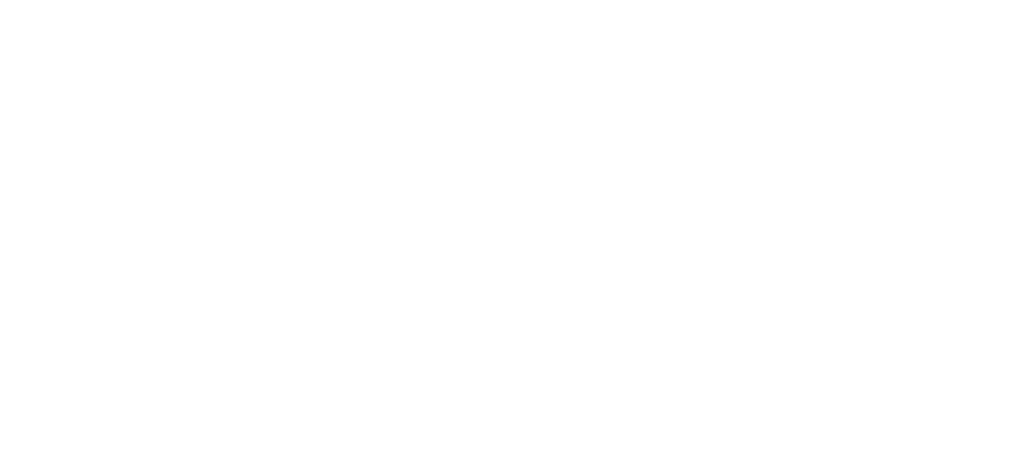
"Приснилась неизвестная Маргарите местность – безнадёжная, унылая, под пасмурным небом ранней весны. Приснилось это клочковатое бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей. Какой-то корявый мостик. Под ним мутная весенняя речонка, безрадостные, нищенские, полуголые деревья, одинокая осина, а далее, – меж деревьев, – бревенчатое зданьице, не то оно – отдельная кухня, не то баня, не то чёрт знает что. Неживое всё кругом какое-то и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика. Ни дуновения ветерка, ни шевеления облака и ни живой души. Вот адское место для живого человека!
И вот, вообразите, распахивается дверь этого бревенчатого здания, и появляется он. Довольно далеко, но он отчётливо виден. Оборван он, не разберёшь, во что он одет. Волосы всклокочены, небрит. Глаза больные, встревоженные. Манит её рукой, зовет. Захлёбываясь в неживом воздухе, Маргарита по кочкам побежала к нему и в это время проснулась.
"Сон этот может означать только одно из двух, – рассуждала сама с собой Маргарита Николаевна, – если он мёртв и поманил меня, то это значит, что он приходил за мною, и я скоро умру. Это очень хорошо, потому что мучениям тогда настанет конец. Или он жив, тогда сон может означать только одно, что он напоминает мне о себе! Он хочет сказать, что мы ещё увидимся. Да, мы увидимся очень скоро". (Булгаков. Мастер и Маргарита)
Найдите сходное и различное в сне Татьяны и сне Маргариты. Кто из них смелее?
И вот, вообразите, распахивается дверь этого бревенчатого здания, и появляется он. Довольно далеко, но он отчётливо виден. Оборван он, не разберёшь, во что он одет. Волосы всклокочены, небрит. Глаза больные, встревоженные. Манит её рукой, зовет. Захлёбываясь в неживом воздухе, Маргарита по кочкам побежала к нему и в это время проснулась.
"Сон этот может означать только одно из двух, – рассуждала сама с собой Маргарита Николаевна, – если он мёртв и поманил меня, то это значит, что он приходил за мною, и я скоро умру. Это очень хорошо, потому что мучениям тогда настанет конец. Или он жив, тогда сон может означать только одно, что он напоминает мне о себе! Он хочет сказать, что мы ещё увидимся. Да, мы увидимся очень скоро". (Булгаков. Мастер и Маргарита)
Найдите сходное и различное в сне Татьяны и сне Маргариты. Кто из них смелее?
Классификация Ремизова:
"У Гоголя или сон или наваждение: морок или морока. Морока под глазом цыгана (Красная свитка) или чумаков (Заколдованное место) или Басаврюка (Ночь под Ивана Купала). А морок — сон Ивана Федоровича Шпоньки, сон Чарткова (Портрет), сон пана Данилы и Катерины (Страшная месть), сон Левко (Майская ночь), сон философа Хомы Брута (Вий) и кузнеца Вакулы (Ночь перед Рождеством), сон городничего (Ревизор), сон деда и бабки (Пропавшая грамота), сон Ноздрева. «Сны редко говорят правду». Сны Гоголя чистая правда. «Сон дурень». Да чего ж дурнее сна деда! Рассказу «Нос» дана форма сна, в котором дури не отбавляй, расплеснешь. Да разве венец — «Мертвые души» не сплошная дурь? И вся жизнь человека в кругу рыл и дряни с просветом преступления не дурь ли?"
М.Ремизов. Огонь вещей : Сны и предсонье
"У Гоголя или сон или наваждение: морок или морока. Морока под глазом цыгана (Красная свитка) или чумаков (Заколдованное место) или Басаврюка (Ночь под Ивана Купала). А морок — сон Ивана Федоровича Шпоньки, сон Чарткова (Портрет), сон пана Данилы и Катерины (Страшная месть), сон Левко (Майская ночь), сон философа Хомы Брута (Вий) и кузнеца Вакулы (Ночь перед Рождеством), сон городничего (Ревизор), сон деда и бабки (Пропавшая грамота), сон Ноздрева. «Сны редко говорят правду». Сны Гоголя чистая правда. «Сон дурень». Да чего ж дурнее сна деда! Рассказу «Нос» дана форма сна, в котором дури не отбавляй, расплеснешь. Да разве венец — «Мертвые души» не сплошная дурь? И вся жизнь человека в кругу рыл и дряни с просветом преступления не дурь ли?"
М.Ремизов. Огонь вещей : Сны и предсонье
Произведения Гофмана и Кэрролла, казалось бы, хорошо известны и в популяризации не нуждаются, но вот в чем дело: современные авторы, существование которых мы не представляем себе без абсурдистской традиции своих великих предшественников, подкидывают нам чудеса, вдруг понимаешь, что и с современном тексте границы между видящим и видимым, читающим и читаемым растворяются в зыбкой игре взаимных отражений, рождается тот самый неуловимый миг — миг метатекстового прозрения. Читатель, полагающий себя властелином страницы, вдруг ощущает, как вот и эта книга оборачивается к нему и куда-то тянет, как она начинает читать его, выпытывая из глубин сознания тени забытых смыслов и невысказанных страхов. Эта инверсия субъект‑объектных отношений - сущностная черта поэтики, роднящей Юрия Буйду с призрачными мирами Льюиса Кэрролла и Э. Т. А. Гофмана: на этом стыке абсурдизма и самоидентификации текст перестаёт быть пассивным хранилищем значений, превращаясь в активный орган восприятия, в другое Я, которое смотрит, вопрошает, испытывает – и предлагает вместо пешки королеву.
У Гофмана этот механизм работает как жуткое (das Unheimliche): читатель, следуя за Натаниэлем в «Песочном человеке», постепенно теряет опору в различение бреда и реальности. Точно так же мы не всегда понимаем, где записки капельмейстера, а где – кота Мура. Текст проводит эксперимент над воспринимающим сознанием. Мы, читатели, оказываемся в ситуации двойного зрения: кот и музыкант наклеиваются слоями, то видим механическую куклу Олимпию, то прозреваем в ней живую женщину; то распознаём в Коппелиусе зловещего колдуна, то принимаем его за обычного юриста. Эта амбивалентность не разрешена автором — она задана как структура. Читатель вынужден колебаться, и в этом колебании он перестаёт быть нейтральным наблюдателем: он становится участником текста, его со‑творцом, но и вдруг - его подопытным. Так текст реализует себя как метатекст: он демонстрирует механизм своего действия, заставляя нас осознать, что мы уже давно не просто читаем — мы прочитываем себя в своей животной и духовной ипостасях, занавес падает посреди действия – так задумано хитрым режиссером для привлечения внимания, так и метатекст – он как занавес - падает в неожиданный момент, чтобы вырвать зрителя из гипноза правдоподобия – и это подчас заслоняет самое жуткое зрелище, самый кульминационный момент – что детально описано в Гофманиане, а затем взято Мариной Цветаевой» для лирического эффекта взрыва стихотворения «Занавес».
Сходную игру с занавесом ведёт Кэрролл, но его поле — не жуткое, а логическое абсурдное, и у него кулисы поднимаются не резко, а медленно, словно в полусне, а зритель (читатель) даже не замечает, как оказывается по ту сторону иллюзии. В «Алисе в Стране чудес» и «Алисе в Зазеркалье» нет явного режиссёра, который вышел бы на авансцену и объявил: «Сейчас я покажу вам, как это устроено» В Стране чудес и Зазеркалье правила языка и причинности подвергаются систематической инверсии. Алиса, сохраняя здравый смысл, постоянно натыкается на ситуации, где её рациональность оказывается бессильной: Чеширский Кот исчезает, оставляя улыбку; время на чаепитии у Шляпника застывает; слова меняют значения в зависимости от контекста. Читатель, следуя за Алисой, тоже втягивается в игру риторических вопросов, ад которыми реально задумываются персонажи. Читатель не может владеть текстом, потому что текст владеет им, подбрасывая семантические ловушки и парадоксы – каламбуры становятся вещами, земля крутится быстрее – только вот зачем? Чтобы мы это осознали. Здесь метатекстовый эффект достигается как зеркальная рекурсия: каждое прочтение открывает новый слой смысла, но никогда не окончательное значение. Текст, подобно зеркалу, отражает не столько предмет, сколько акт смотрения, превращая читателя в объект собственного восприятия.
Буйда, наследуя эту традицию, смещает акцент в экзистенциальную плоскость. Его сон о близнеце, затерянном в ивовых зарослях, метафора двойничества – на уровне всеобщей утраты свойства говорить со своим альтер-эго, модель самосознания. Когда герой наконец входит в заросли, он не находит брата: он находит себя. Это момент метатекстового откровения: текст (сон) перестаёт быть повествованием о другом и становится способом встречи с собой. Здесь реализуется ключевой принцип постмодернистского метатекста: граница между субъектом и объектом чтения исчезает, потому что сам акт чтения конституирует субъекта.
В философском плане это соотносится с идеями постструктурализма и теории метатекста. Согласно Жаку Деррида, любой текст несёт в себе следы иных текстов; он не замкнут, а открыт в бесконечную сеть цитирования, разкидывает себя складками реальности. Читатель, думая, что он интерпретирует текст, на деле интерпретируется текстом — он втягивается в игру означающих, где его «я» оказывается не источником смысла, а его эффектом. Ролан Барт в «Смерти автора» провозглашает: после рождения текста автор умирает, и право на интерпретацию переходит к читателю. Но и читатель, как показывает Гофман и Кэрролл, не всесилен: он сам, приобретя черты более высокого сознания, становится персонажем текста, его функцией, его маской.
У Гофмана эта маска — безумец, музыкант, кот, двойник, кукла; у Кэрролла — ребёнок, заблудившийся в лабиринте языка; у Буйды — сновидец, который не может отличить воспоминание от вымысла. Во всех случаях текст реализует себя как самосознающий механизм зазеркалья психики, втиснутой в законы слова. «Быть может, самое любопытное в процессе чтения — неуловимый момент превращения, читающего в читаемое, читателя — в книгу, которая в какой–то миг начинает нас читать. И даже странно, почему, дочитав до конца, мы не меняемся физически: ведь за эти часы или дни прожито столько новых жизней и заново — собственная. Иногда это ощущение вызывает у меня радость, иногда — ужас». Очевидно, в зависимости от того, что или кто стоит за видением: Кэрролл или Гофман, мы попадаем в сказку или подсознание. Буйда боится встречи со своим двойником – зачем торопить то, что и так произойдет в эсхатологическом мире? «А я почему–то не могу сделать хотя бы шаг — вероятно, таковы законы этого сна. В комнате зеленоватый аквариумный полусвет. Мы не произносим ни слова. Я не знаю, сколько длится наша молчаливая встреча. Ничего не происходит. Возможно, мальчик за столом — я, а увидеть себя во сне — дурная примета. Наконец картина начинает меркнуть, расплывается, гаснет. Все. Жаль только, что не удалось рассмотреть название книги. Я просыпаюсь».
Так рождается особая онтология текста-сна. Ссылка на Мартина Бубера указывает на двузначность еврейского слова (вероятно, קֵץ / кец), которое может означать и «конец», и «цель». Этот семантический сдвиг меняет оптику восприятия истории: в что если мир движется к «концу»? То сам этот конец становится целевой причиной (causa finalis)? Он придаёт направленности бытию? Он превращает слепой поток событий в осмысленный путь? Эсхатон (конец времён) перестаёт быть лишь финалом — он превращается в горизонт смысла, к которому устремлено человеческое существование, где-то там твой двойник и слияние с ним.
У Гофмана этот механизм работает как жуткое (das Unheimliche): читатель, следуя за Натаниэлем в «Песочном человеке», постепенно теряет опору в различение бреда и реальности. Точно так же мы не всегда понимаем, где записки капельмейстера, а где – кота Мура. Текст проводит эксперимент над воспринимающим сознанием. Мы, читатели, оказываемся в ситуации двойного зрения: кот и музыкант наклеиваются слоями, то видим механическую куклу Олимпию, то прозреваем в ней живую женщину; то распознаём в Коппелиусе зловещего колдуна, то принимаем его за обычного юриста. Эта амбивалентность не разрешена автором — она задана как структура. Читатель вынужден колебаться, и в этом колебании он перестаёт быть нейтральным наблюдателем: он становится участником текста, его со‑творцом, но и вдруг - его подопытным. Так текст реализует себя как метатекст: он демонстрирует механизм своего действия, заставляя нас осознать, что мы уже давно не просто читаем — мы прочитываем себя в своей животной и духовной ипостасях, занавес падает посреди действия – так задумано хитрым режиссером для привлечения внимания, так и метатекст – он как занавес - падает в неожиданный момент, чтобы вырвать зрителя из гипноза правдоподобия – и это подчас заслоняет самое жуткое зрелище, самый кульминационный момент – что детально описано в Гофманиане, а затем взято Мариной Цветаевой» для лирического эффекта взрыва стихотворения «Занавес».
Сходную игру с занавесом ведёт Кэрролл, но его поле — не жуткое, а логическое абсурдное, и у него кулисы поднимаются не резко, а медленно, словно в полусне, а зритель (читатель) даже не замечает, как оказывается по ту сторону иллюзии. В «Алисе в Стране чудес» и «Алисе в Зазеркалье» нет явного режиссёра, который вышел бы на авансцену и объявил: «Сейчас я покажу вам, как это устроено» В Стране чудес и Зазеркалье правила языка и причинности подвергаются систематической инверсии. Алиса, сохраняя здравый смысл, постоянно натыкается на ситуации, где её рациональность оказывается бессильной: Чеширский Кот исчезает, оставляя улыбку; время на чаепитии у Шляпника застывает; слова меняют значения в зависимости от контекста. Читатель, следуя за Алисой, тоже втягивается в игру риторических вопросов, ад которыми реально задумываются персонажи. Читатель не может владеть текстом, потому что текст владеет им, подбрасывая семантические ловушки и парадоксы – каламбуры становятся вещами, земля крутится быстрее – только вот зачем? Чтобы мы это осознали. Здесь метатекстовый эффект достигается как зеркальная рекурсия: каждое прочтение открывает новый слой смысла, но никогда не окончательное значение. Текст, подобно зеркалу, отражает не столько предмет, сколько акт смотрения, превращая читателя в объект собственного восприятия.
Буйда, наследуя эту традицию, смещает акцент в экзистенциальную плоскость. Его сон о близнеце, затерянном в ивовых зарослях, метафора двойничества – на уровне всеобщей утраты свойства говорить со своим альтер-эго, модель самосознания. Когда герой наконец входит в заросли, он не находит брата: он находит себя. Это момент метатекстового откровения: текст (сон) перестаёт быть повествованием о другом и становится способом встречи с собой. Здесь реализуется ключевой принцип постмодернистского метатекста: граница между субъектом и объектом чтения исчезает, потому что сам акт чтения конституирует субъекта.
В философском плане это соотносится с идеями постструктурализма и теории метатекста. Согласно Жаку Деррида, любой текст несёт в себе следы иных текстов; он не замкнут, а открыт в бесконечную сеть цитирования, разкидывает себя складками реальности. Читатель, думая, что он интерпретирует текст, на деле интерпретируется текстом — он втягивается в игру означающих, где его «я» оказывается не источником смысла, а его эффектом. Ролан Барт в «Смерти автора» провозглашает: после рождения текста автор умирает, и право на интерпретацию переходит к читателю. Но и читатель, как показывает Гофман и Кэрролл, не всесилен: он сам, приобретя черты более высокого сознания, становится персонажем текста, его функцией, его маской.
У Гофмана эта маска — безумец, музыкант, кот, двойник, кукла; у Кэрролла — ребёнок, заблудившийся в лабиринте языка; у Буйды — сновидец, который не может отличить воспоминание от вымысла. Во всех случаях текст реализует себя как самосознающий механизм зазеркалья психики, втиснутой в законы слова. «Быть может, самое любопытное в процессе чтения — неуловимый момент превращения, читающего в читаемое, читателя — в книгу, которая в какой–то миг начинает нас читать. И даже странно, почему, дочитав до конца, мы не меняемся физически: ведь за эти часы или дни прожито столько новых жизней и заново — собственная. Иногда это ощущение вызывает у меня радость, иногда — ужас». Очевидно, в зависимости от того, что или кто стоит за видением: Кэрролл или Гофман, мы попадаем в сказку или подсознание. Буйда боится встречи со своим двойником – зачем торопить то, что и так произойдет в эсхатологическом мире? «А я почему–то не могу сделать хотя бы шаг — вероятно, таковы законы этого сна. В комнате зеленоватый аквариумный полусвет. Мы не произносим ни слова. Я не знаю, сколько длится наша молчаливая встреча. Ничего не происходит. Возможно, мальчик за столом — я, а увидеть себя во сне — дурная примета. Наконец картина начинает меркнуть, расплывается, гаснет. Все. Жаль только, что не удалось рассмотреть название книги. Я просыпаюсь».
Так рождается особая онтология текста-сна. Ссылка на Мартина Бубера указывает на двузначность еврейского слова (вероятно, קֵץ / кец), которое может означать и «конец», и «цель». Этот семантический сдвиг меняет оптику восприятия истории: в что если мир движется к «концу»? То сам этот конец становится целевой причиной (causa finalis)? Он придаёт направленности бытию? Он превращает слепой поток событий в осмысленный путь? Эсхатон (конец времён) перестаёт быть лишь финалом — он превращается в горизонт смысла, к которому устремлено человеческое существование, где-то там твой двойник и слияние с ним.
Сергей Есенин
Вижу сон. Дорога черная…
Вижу сон. Дорога черная.
Белый конь. Стопа упорная.
И на этом на коне
Едет милая ко мне.
Едет, едет милая,
Только нелюбимая.
Эх, береза русская!
Путь-дорога узкая.
Эту милую, как сон,
Лишь для той, в кого влюблен,
Удержи ты ветками,
Как руками меткими.
Светит месяц. Синь и сонь.
Хорошо копытит конь.
Свет такой таинственный,
Словно для единственной —
Той, в которой тот же свет
И которой в мире нет.
Хулиган я, хулиган.
От стихов дурак и пьян.
Но и все ж за эту прыть,
Чтобы сердцем не остыть,
За березовую Русь
С нелюбимой помирюсь.
1925 г.
Вижу сон. Дорога черная…
Вижу сон. Дорога черная.
Белый конь. Стопа упорная.
И на этом на коне
Едет милая ко мне.
Едет, едет милая,
Только нелюбимая.
Эх, береза русская!
Путь-дорога узкая.
Эту милую, как сон,
Лишь для той, в кого влюблен,
Удержи ты ветками,
Как руками меткими.
Светит месяц. Синь и сонь.
Хорошо копытит конь.
Свет такой таинственный,
Словно для единственной —
Той, в которой тот же свет
И которой в мире нет.
Хулиган я, хулиган.
От стихов дурак и пьян.
Но и все ж за эту прыть,
Чтобы сердцем не остыть,
За березовую Русь
С нелюбимой помирюсь.
1925 г.
Современная литература и сны в ней
Булгаков на современный лад.
Похождения Мертвых душ в XXI веке
«Покайся, отец! Не страшно ли, что после каждого
убийства твоего, мертвецы
подним а ю т с я из моги л?»
— «Ты опять за старое!»
Снилось мне, будто бы в цифровом аду, над входом в который мигает неоновая вывеска «Мертвые NFT», шутник-алгоритм открыл шлюзы. Зашевелилось метавселенная, и потянулась из нее бесконечная цепочка блоков.
Манилов в пуховике от Moncler, стримящий в TikTok про «духовные скрепы», Ноздрев на краденом Lambo с крипто-наклейкой HODL, Держиморда с нейросетью, сканирующей лица, Селифан — бот, генерирующий фейки, Фитинья — блогер-разоблачитель с Patreon…
А самым последним вылез из облачного хранилища он — Павел Иванович Чичиков в своей Tesla на автопилоте.
И двинулась вся ватага в Россию 2023-го, и произошли в ней тогда изумительные происшествия. А какие — тому следуют пункты.
Пункт первый: Въезд и посадка
Пересев в Москве из Tesla в Яндекс.Такси (ибо сел аккумулятор, который работал по принципу "До Москвы доедет, а вот до Казани..."), Чичиков яростно тыкал в смартфон:
— Чтоб ему, Гоголю клятому, век из кодификатора ЕГЭ не выйти, чтоб ему в интернет не войти! Наследил в истории так, что теперь нейросети меня по бровям вычисляют! Ведь если Face ID распознает — в два клика бан на всех картах, да еще и в розыск через «Православного агрегатора»! А все Гугл с его глубинным обучением…
И ругая литературу и техногигантов, въехал он в ту самую гостиницу, что ныне звалась «Мини-отель 3* на Рублевке (без breakfast)».
Все было по-прежнему: из розеток лезли кибертараканы-майнеры, на стенах — плесень в виде QR-кодов. Но были и новшества: вместо портье — чат-бот с надписью «Нажмите 1 для жалобы», а вместо ключей — биометрия.
— Номер!
— Скан паспорта в приложении «Госуслуги.Мета» пожалуйте, — просигналил робот. — И справку о вакцинации от инфодемии.
Чичиков листал новости на смартфоне. Экран светился заголовками:
«Крипта падает!», «Хлестаков запускает реалити-шоу в Звездном городке», «Собакевич признан главным редактором десятилетия».
— Ба! — Чичиков тыкнул в портрет Собакевича, где тот восседал на фоне гигантской голограммы своего журнала. — Михаил Семёныч! Надо проведать, как там свои…
Он вспомнил, как в 2023-м Собакевич пытался продать ему NFT-колонну «Дух эпохи» за биткоины. «Тогда отказался, а зря… Сейчас бы через его кольца Саурона все токены вернул!»
Чичиков, пройдя через рамки с ИИ-цензором (которые пищали, но пропустили его как «цифрового бомжа»), застал Собакевича за ритуалом. Тот, в мантии с вышитыми цитатами Сталина, лично правил статью ИИ-автора:
Исходный текст: «Россия — это страна возможностей».
Правка Собакевича: «Россия — это страна возможностей, тяжёлых, как мои кулаки!».
— Михаил Семёныч! — Чичиков раскинул руки, чуть не задев висящий в воздухе NFT-герб журнала. — Поздравляю с кольцами! Слышал, вы теперь… э-э-э… как Саурон, только духовнее!
Собакевич, не отрываясь от экрана, буркнул:
— Духовность не в кольцах, Павел Иванович. Она — в монументальности! — Он ткнул пальцем в стену, где висели QR-коды вместо портретов классиков. — Вот, Достоевский… переписал бы «Братьев Карамазовых» в стиле «Знамения»! Без этих ваших «сомнений» и «рефлексий»!
Чичиков, разглядывая кольца, которые искрились угрожающе, осторожно спросил:
— А… авторы ваши всё так же пишут? «И я Собакевич»?
— Пишут! — редактор хлопнул по столу, отчего кольца метнули молнии. — Вчера нейросеть статью сгенерировала: «Я, как Собакевич, заявляю: Искусственный интеллект — новый Лев Толстой!». Читатели в восторге!
Чичиков едва сдержал смех, вспомнив, как та же нейросеть вчера предлагала ему купить «духовные NFT-свечи». Но, делая серьёзное лицо, кивнул:
— Величие, Михаил Семёныч! А не хотите… э-э-э… расширить аудиторию? Я бы вам канал в Дзене настроил…
— Взрыв ярости:
— Дзен?! — Собакевич вскочил, опрокинув стопку журналов с памятником Аленушке на обложке. — Это что за буддизм?! У нас тут — традиции! Цифровые, но традиции!
Чичиков, отступая к выходу, пробормотал:
— Ну, я просто… э-э-э… к Хлестакову загляну. Он, говорят, теперь и сценарии для ИИ-Достоевского пишет…
— Хлестаков?! — Собакевич побагровел. — Этот щелкопёр! Его «пьесы» — позор! Вчера нейросеть по его сценарию спектакль выдала: «Ревизор 2.0: Свингеры в мэрии»!
Чичиков, так и не договорившись о рекламе токенов, сбежал. А Собакевич, чтобы успокоиться, написал передовицу: «И я Собакевич ненавижу стримеров. Подпишите петицию!».
Тем временем Хлестаков, узнав о визите Чичикова, запустил слух: «Собакевич тайно майнит крипту в подвале „Знамения“!». Читатели, впервые за годы, заинтересовались журналом.
А Собакевич продолжал выполнять свои обязанности. Каждое кольцо жгло пальцы авторам, подписывавшим контракты:
Статья 1: «И я Собакевич» — писал поэт о сносе хрущёвок.
Статья 2: «И я Собакевич» — вторил критик, разбирая сериал «Слуги народа-2».
Даже кроссворд: «Вертикаль власти. По горизонтали: Собакевич».
— Михаил Семёныч, — робко заикнулся молодой автор, — а можно про любовь? Ну, там… личное?
Собакевич, попивая квас из кружки с гербом, грохнул кулаком:
— Любовь? Это когда к Родине! Пиши: «Я, как Собакевич, люблю бетонные просторы!». И чтоб рифма была — «опора»!
Кольца вспыхнули. Автор, застонав, начал печатать.
В это время Хлестаков, уже директор театра «Хайп», носился по коридорам с макбуком:
9:00: Написать пьесу «Чиновник-трансформер»!
10:00: Создать сценарий ток-шоу «Слезами беженцев по сердцу»!
11:00: Придумать скандал для блогера-миллионника: «Я спал с инопланетянином из Госдумы!»
— Иван Александрович, — шептал продюсер, — это же неправда!
— Правда? — Хлестаков вскинул брови. — Да я вчера сам с Путиным в метавселенной чай пил! Хотите скриншот?
Его Telegram взорвался:
— Редактор шоу «Голос. Ноев ковчег»: «Срочно нужен сюжет про спасение уток от гендерной идеологии!»
— Министр культуры: «Иван, пришлите речь для форума „Культура vs Трава“!»
Хлестаков, не отрываясь, надиктовал голосовому ассистенту:
— «Духовность — это когда много букв и пафоса. Добавьте про святую клубнику Плюшкина и кольца Саурона… А, нет, это Собакевичу оставьте».
Встреча титанов была неожиданной. На банкете «Медиа-Саммит» Собакевич и Хлестаков столкнулись у фуршета.
— Ваши ток-шоу, Иван Александрович, — мусор, - констатировал Собакевич, разламывая осетра с гимном. - Вот журнал «Знамение» — это памятник!
— Памятник? Да вас же только боты читают! А моё шоу «Вдруг миллионер» смотрят даже в ЗАГСах — вместо росписи! – горячился Хлестаков, прихлёбывая шампанское.
— Монументальность — она вечна! Вы же… эфемерны.
— Эфемерны? Я только что запустил флешмоб #ХочуВЗнамение. Смотрите: ваши подписчики выросли на 0.5%!
Кольцо Саурона дымилось. Собакевич хрипел:
— Это… нечестно!
— В эпоху трендов, Михаил Семёныч, даже памятники должны стоять в TikTok!
Собакевич вернулся в редакцию, приказав написать: «И я Собакевич ненавижу TikTok».
Хлестаков же продал сценарий: «Собакевич vs Хлестаков: Битва эпох». Рейтинги побили все рекорды.
А кольца Саурона, тем временем, тихо ржавели в ящике. Их съела нейросеть, обученная на статьях «Знамения».
Пункт второй: Торги
В народе хакерском зашептали: «Пошел Чичиков души собирать, да не простые, а цифровые, где на одной живой по 5-6 аков числится!». Весть облетела весь даркнет:
— Петрушка (ныне — админ подпольного форума «Чертовы Кулишки»), слил в Telegram-канал скриншоты сделок: «Смотрите, какие дубликаты! На Собакевича тут три кошелька — и все с мультиподписью! А у Плюшкина токены в сейфе из Windows XP!».
— Селифан-бот, генерирующий фейки, вдруг завис: хакеры из группы «Рептилоиды 2.0» подменили его алгоритм на скрипт, поющий в голосовых чатах: «Эх, прокачу Павла Ивановича через Tor!».
— Господин Жак, уже торговавший «крипто-перстнями», вдруг обнаружил, что его смарт-контракт взломали через уязвимость в «духовных скрепах». Вместо удаления компромата — все слитые данные улетели в канал «Украина 24/7». «Это Аннушка масло лила на сервера!» — орал он, но Фрида уже банила его IP за «несанкционированную духовность».
— Даже Бегемот, стримящий взлом ЦБ, замер: «Граждане, это не я! Это ребята с ником @Nozdrev_Scam подсунули мне троян в стиле «Золотого Тельца»!».
А тем временем хакеры-«собакевичи» в масках Гая Фокса торговали на гидре:
— «Покупайте пакеты «Мертвые души 2.0»: фейковые аккаунты с историей переписок, крипто-кошельки, прописки в метавселенной! На одну живую душу — пять аватарков! Скидка за Tether!».
Чичиков, лихорадочно скупавший SoulCoin, и не заметил, как его Tesla Model S, подключенная к городскому Wi-Fi, стала нодой для майнинга. На экране замигал логотип: «Ваш автомобиль теперь часть фермы «Рога и копыта 2.0». Спасибо за ликвидность!».
Ноздрев, хваставшийся краденым Lambo, вдруг получил NFT-штраф за парковку на Красной площади — оказалось, хакеры вшили в его кошелек геолокацию 1991 года. «Это Селифан накосячил!» — орал он, но «Сбер-Гоголь» уже генерировал иск в блокчейн-суд…
Манилов, ох уж этот мечтатель Манилов! в пуховике Moncler, но с вышитой на спине надписью «Духовные скважины — 300 лет без урожая», витал в облаках. Расплылся в своей гоголевской улыбке, завидев приятеля:
— О, Павел Иванович! Взгляните на мой токен «Сельский патриотизм 4.0»! — он щёлкнул пальцами, и в воздухе возник голограммный пруд с карасями, прыгающими в такт курсу BTC. — Видите? Это метавселенная для деревень! Тут можно… э-э-э… кормить уток NFT-хлебом и строить мосты в Web3! Лайки гарантирую — я ботов нанял из Твери!
Чичиков, вспомнив, как Манилов в 2022-м пытался продать ему DAO-колхоз «Райские яблочки» (где токены росли на виртуальных деревьях), едва сдержал усмешку. Но вежливо кивнул:
— Очаровательно… А ликвидность? С ликвидностью-то как?
— Ликвидность? — Манилов замер, будто впервые слышал слово. — Ну… пруд же есть! Караси — они ведь… э-э-э… почти как стейблкоины?
Ноздрев, тем временем, орал в Telegram-канале «Крипта и бабы»:
— СЛУШАЙ, ЧИЧИКОВ! ЕСТЬ ГОРЯЧАЯ КРИПТА — САНКЦИОННАЯ! ЗА ПОЛЦЕНЫ! — он прислал голосовое, где на фоне слышался рёв Lambo и сирены ГИБДД. — МЕНЯЮ НА НЕФТЬ В ТЕНДЕРАХ! ИЛИ НА ПОДПИСИ ДЕПУТАТОВ В ТЕЛЕГРАМЕ!
Чичиков хотел ответить, но тут Держиморда в очках с ИИ-распознаванием (на оправе — герб РФ вместо бренда) перегородил ему путь. Датчики на его форме пищали, сканируя QR-код на лбу Павла Ивановича:
— Ты кто? — зарычал он, тыча пальцем в экран планшета. — Гражданин Чичиков П.И.? Соцрейтинг 67.3 — недостаточно для операций с NFT! — его нейросеть, обученная на законах 1937 года, уже блокировала кошельки. — Ваш токен «Сельский патриотизм» внесен в реестр иноагентов.
— Но позвольте! — попытался вставить Чичиков. — Это же метавселенная! Тут пруд с карасями…
— Пруд? — Держиморда фыркнул, запуская алгоритм «РосКомПошлина». — По статье 282-й, караси — экстремистские рыбы. Ваш Манилов распространяет фейки о сельском хозяйстве.
Пункт третий
Суд алгоритмов.
Чичиков, листая блокчейн-реестр, наткнулся на странный лот — «Души с бала Сатаны (NFT, ликвидность 666%)». В аукционе участвовали те, кого алгоритм засосал в эту реальность:
Господин Жак в костюме от Brioni торговал «крипто-перстнями»: «Всего 0.5 BTC за гарантию безнаказанности! Смарт-контракт сам удалит компромат из облака!».
Фрида, в синем худи с надписью «Content Moderator», давила платком голосовые сообщения в чатах: «Слово «война» — бан. «Коррупция» — бан. «Голод» — пермач. А ребёнка вашего, гражданин, я сама в корзину метну…».
Внезапно экраны всех гаджетов потемнели, и из колонок раздался голос, от которого задрожали даже сервера «Сбера»:
— Фриде больше не подавать.
Это был Воланд, чей аватар — черная дыра с пиксельными искрами — завис над чат-ботами. Его нейросеть, обученная на всех запрещенных книгах Рунета, анализировала данные быстрее, чем Фрида успевала банить.
— Вы, гражданочка, слишком увлеклись, — продолжил он, и в голосе слышался скрип жёстких дисков. — Ребёнка в корзину? Это не по-людски. Даже по-нашему, цифровому.
Фрида, бледнея под синим худи, тыкала в кнопку «Апелляция», но экран гас. Её аккаунт модератора превратился в NFT-призрак с надписью: «Уволена за превышение духовных скреп».
Коровьев, уже сменивший айпи через VPN, шептал Чичикову:
— Видали? Воланд взялся за чистку метавселенной! Говорят, он теперь советник по этике в «Яндексе»…
Тем временем Бегемот, переквалифицировавшийся в блогера-кошкотерапевта, стримил:
— Граждане! Фриду заменил ИИ «ДоброМодератор 3000»! Он банит по гороскопу!
Маргарита, пролетая на дроне над Лубянкой, кричала в эфир:
— Воланд! ВоландТы обещал устроить бал, а не технофашизм!
Но Воланд, уже погруженный в анализ Big Data, ответил лишь эхом:
— Человечество любит деньги… даже цифровые. Но оно стало ещё смешнее.
На другой день Фрида, лишившись работы, устроилась в стартап Ноздрева — продавала «крипто-платки» для удавки: «Задуши токсичность, купи наш токен!». Чичиков же, наблюдая за крахом SoulCoin, вздохнул:
— Всё как у Гоголя… Только вместо брички — блокчейн.
А на экране его Tesla, внезапно ожившей, всплыло сообщение:
— Воланд приглашает вас на бал в метавселенную. Dress code: тени прошлого, маски алгоритмов. P.S. Аннушке вход воспрещён — масло запрещено.
Госпожа Тофана рассылала фишинговые зелья через Telegram: «Нажмите ссылку — получите NFT-яду! Ваши кошельки опустеют, но душа очистится!». Рядом графиня Тофания ди Адамо взламывала биржи, подменяя USDT на «духовные скрепы» по курсу 1:1000.
Госпожа Минкина в ярости кликала на фейковые аккаунты: «Где этот ублюдок Аракчеев? Я ему всю метавселенную спалю!». Уже горели аватарки блогерш, а в Stories множились фейки про «мисс Сеть-2025» с рогами.
Император Рудольф II в VR-шлеме торговал «астрологическими токенами»: «Купите DOGE под знаком Альдебарана — и ИИ предскажет курс!». За ним Бегемот стримил в Twitch, как взламывает ЦБ через «дыру» в законе о ЦОС.
Граф Роберт, сливая токсичность в Twitter, орал: «Вы все говно! Я запощу ваши логины в «Сплошную пятницу»!». Его треды душила даже Фрида, но алгоритм Сатаны множил их как вирус.
Коровьев, извиваясь в Telegram-стикерах, нашептывал Чичикову:
— Павел Иванович, забудьте про нефть! SoulCoin Молчалина — вот ваша «тихая гавань». Ни шума в СМИ, ни санкций — токен вне юрисдикций, как призрак! Купите пакет, пока регуляторы спят…
Чичиков, вспомнив, как Коробочка в 2021-м отказалась брать его NFT с Манежа («Мне бы токены попрактичнее, Павел Иванович, эта ваша метавселенская пыль…»), всё же клюнул. «Молчалин — не Манеж, тут прогореть нельзя», — подумал он, переводя ETH на кошелёк с подписью «SoulCorp».
Аннушка же — бывшая уборщица, ныне «младший аналитик блокчейн-транзакций» — уже «разлила масло»: случайно запостила приватные ключи CEO в паблик «Подслушано у майнеров». В чатах царил хаос:
— Граждане! Кто купил SoulCoin — бегите обнулять!
— Это фейк!
— Нет, это Аннушка опять с кошельками напортачила!
И только Маргарита, летая на смарт-дроне над Москвой, кричала в мегафон: «Здесь вам не метавселенная! Здесь вам… вообще не пойми что!». Но её голос тонул в гудящих серверах «Яндекс.Облака», где мертвые души множились как спам-боты.
Пункт четвертый. Ассенизаторы
Но лишь Чичикова опять турнули из реальности. Лузер, однако!
Пока Чичиков радовался «тихому» токену, SoulCoin рухнул на 300% (спасибо слитым ключам и мемам про «Молчалина-скама»). Коровьев, уже сменивший ник на «КриптоФагот», стучал в личку:
— Павел Иванович! Срочно выводите активы через Tornado Cash!
Но было поздно: Фрида, заметив в ленте хештег #SoulCoinScam, забанила кошельки Чичикова во всех соцсетях, а Тофана подмешала в его USDT цифровую белладонну. Даже бричка-Tesla, подключившись к Wi-Fi у Манежа, фыркнула: «Autopilot disengaged. Рекомендуем вернуться в XIX век».
Аннушка, виновница коллапса, получила повышение — её взяли в «Роскомнадзор» чистить чаты от «фейков о SoulCoin». А Манилов тем временем стримил: «Крипта — это духовные скрепы! Держитесь, братья!» — и скупал токены по 0.0001 BTC, пока Ноздрев не продал ему «права на Манеж» в формате JPEG…
Но тут нейросеть «Сбер-Гоголь» вычислила аномалию: «Обнаружен читинг в блокчейне!». Побежали Чичикова баннить — и с карт, и из метавселенной, на Прозе.ру и даже в «ВКонтакте» забанили.
— Все вам метавселенные! — кричал он, швыряя в экран AirTag. — На Лубянке хоть VPN был!
А бричка-Теса, заряжаясь у сквера с памятником Гоголю, мигал фарами: мол, век вперёд — пороки назад. Как же спаситись-то?
И Чичиков вспомнил про Плюшкина, однако в этой реальности он был недосягаем, он был Самим, а то и выше Самого. Пришлось сделать крюк времени.
Ещё в 90-е, когда мамонты-мажоры гоняли на «девятках» с кассетниками «Любэ», Плюшкин — единственный из героев — был телепортирован волей Сатаны в эпоху ваучеров и колготок «в полоску». Поселился он в полуразрушенной усадьбе под Рязанью, где вместо собак двор охраняли ржавые жестянки с надписью «Coca-Cola».
Чичиков, набравший кредитов под залог NFT-душ, примчался к нему в 1997-м:
— Семён Семёнович! Укрой! Адвокат говорит, можно всё списать через «МММ»…
Плюшкин, в пальто, сшитом из мешков под сахар, хрипел:
— Кредиты? Да я тут банки консервирую! — он ткнул пальцем в погреб, где в банках с огурцами плавали купоны «Владдива». — Бери, но… э-э-э… процент — две бутылки «Агдама»! Переночевал Чичиков у Плюшкина в хлеву, и ему все время мерещились гробы, летавшие над ним. Утром, выйдя из усадьбы, он очутился у храма, где две банды — «Братки-цифровики» и «Аналоговые авторитеты» — сошлись на стрелке. Лидеры в малиновых пиджаках целились из обрезов, и уже через минуту пополнили бы братство мертвых душ, как вдруг увидели Плюшкина. Тот, замотанный в шарф из газеты «Коммерсантъ», крестился на купола, роняя консервные ключи:
— Господи, неужто опять дефолт?..
Бандиты, приняв его за юродивого пророка, попадали на колени:
— Батюшка! Благослови!
— Отмаливайте «чёрные кассы»! — шипел Плюшкин, тыча в них ключом от погреба.
И вот теперь Плюшкин — новый гуру. Администрация храма, узнав, что бандиты после встречи с ним сдали стволы в ломбард и открыли кооператив «Благочестивый видеосалон», на коленях упросила его стать настоятелем. К 1998-му Плюшкин уже служил литургию на смеси церковнославянского с биржевым сленгом («Сие есть тело моё, взятое в ломбард…»), а пожертвования хранил в танке Т-34, зарытом во дворе.
В 1999-м, когда весь Рунет висел на модемах, к Плюшкину прикатил Билл Гейтс с делегацией. Хотел купить «русскую душу» для Windows ME, но задел рукавом паутину на старых часах Семёна Семёновича. И — о чудо! — по паутине, словно по оптоволокну, пробежали байты.
— What’s this?! — ахнул Гейтс.
— Глобальная сеть, — буркнул Плюшкин. — Только не трогайте, а то рассыплется…
Так произошло рождение Рунета. Наутро в усадьбе замигал первый сервер — переделанный ламповый телевизор «Рекорд». Паутина с часов Плюшкина, подключённая к проводам от утюга, стала прототипом Wi-Fi. Билл, уезжая, пробормотал:
— Call it… «World Wide Web». But in Russian — «Всемирная Паутина»!
Когда в ФСБ узнали, что «сеть» связана с усадьбой Плюшкина, туда ввели войска. Усадьбу обнесли колючкой, на крыше поставили пулемётчиков, а на заборе написали: «Собственность государства. ОПГ «Святые 90-е». Плюшкин, однако, продолжал рассылать спам-письма с благословениями через dial-up, а Чичиков, прикупив ваучеры, несколько раз сбегал в 2025-й — спасать SoulCoin и по другим неотложным делам.
Сам Плюшкин так и не понял, что причастен к созданию интернета. Он до сих пор хранит сервер под иконой, приговаривая: «Паутина — она как души: лишнюю не распутаешь, а нужная всё равно в банке с огурцами затеряется…».…
Чичиков присвистнул, узнав, что Плюшкин не подозревает о том, что в его руках судьба всех электронных ресурсов страны, что все банковские счета – на паутине.
Он, протискиваясь после очередной неточной телепортации в погреб сквозь горы консервных банок с надписью «Криптоогурцы-1998», поинтересовался:
— Семён Семёнович! Да вы… э-э-э… небось даже не догадываетесь, что у вас тут?!
Плюшкин, копошась у сервера из лампового телевизора, обернулся. На его часах паутина пульсировала байтами:
— Чего? Опарышей в банке завелось? Да я их… э-э-э… на удобрение пущу!
— Не опарыши! — Чичиков тыкнул в паутину, где мелькали логотипы ЦБ и ФНС. — Вот эта штука… она ж всю финансовую систему держит! Все счета, транзакции, даже крипту!
Плюшкин снял очки, протёр их газетой «Ведомости»:
— Врёшь? Да я ж её от комаров сплёл! Летом, помнится, в 99-м, Билл тот… американец… чихал от неё.
— Да это же главный узел Рунета! — Чичиков схватился за голову, представляя, как Держиморда уже сканирует их IP. — Вы тут, можно сказать, министр цифры!
Плюшкин фыркнул, поправляя банку с купонами на голове вместо шапки:
— Министр? Да я ж вон погреб еле от бандитов отбил! Вчера мальчишка какой-то в джинсах рваных лез — кричал, мол, «дай поиграть в доту»!
— Семён Семёнович! — Чичиков пригнулся, будто боясь, что паутина подслушает. — Вы можете любой банк обнулить! Или, наоборот, триллион намайнить…
Плюшкин нахмурился, доставая из кармана ключ от погреба:
— Майнить? Да я картошку в прошлом году майнил — жуки сожрали. Ты, Павел, лучше скажи… — он понизил голос, — …у тебя «Агдам» есть? А то сервер глючит — может, вино прошивку обновит?
Чичиков, поняв, что объяснять бесполезно, достал из портфеля бутылку:
— Вот, армянский коньячок… 50-й proof, как биткоин! Только, чур, паутинку мне на минутку…
Чичиков, осторожно снимая паутину с часов Плюшкина, едва не задел ржавую банку из-под тушёнки. Из-под неё выполз паук-сетевой администратор, недовольно щёлкнув манипуляторами.
— Бери, — Плюшкин махнул рукой, закручивая крышку на банке с надписью «Криптосоленья-2004». — Только не порви. А то ФСБ опять новую проволоку вокруг усадьбы ставить будет. И без того никто в гости не ходит… даже клубнику воровать!
Он кивнул в сторону окна, за которым виднелись заросли лопухов и покосившийся забор, обмотанный колючкой. На столбе висел таблирт: «Частная собственность. Сеть под охраной Роскомнадзора».
Чичиков фыркнул, поправляя галстук с принтом Dogecoin:
— Так ты теперь святой батюшка, кто ж посмеет такой грех совершить? Тебе бы венчик цифровой носить да иконы в блокчейн загружать…
Плюшкин, достав из кармана связку ключей от несуществующих погребов, зашипел:
— Венчик? Да я вон в прошлом году крестил бандита одного… Так он после крещения кошелёк мне виртуальный подарил. А там — шиш! Пусто! Святость нынче дешевле гвоздей.
— Зато почтение! — Чичиков жестом показал на проволоку. — У других хоть три ряда колючки — клубнику всё равно утащат. Шланг, насос… Эти ассенизаторы мне вот где! — он повертел рукой выше головы, задев паутину. Та завибрировала, высветив в воздухе голограмму ЦБ.
Плюшкин, не глядя, швырнул в голограмму банкой. Изображение распалось на пиксели:
— Ассенизаторы? Да они мне весь огород вытоптали, как проволоку ставили! Говорю: «Клубника тут святая!», а они: «Нам приказ — сеть охранять и лишнее г из нее в цистерну завинчивать». Ну, сеть… — он плюнул в угол, где в паутине копошился цифровой таракан с логотипом Telegram.
— Сеть, Семён Семёнович, — Чичиков прищурился, — это теперь ваша паутина. Вы как… э-э-э… цифровой старец. Вам бы медведей из Ростеха кормить да токены благословлять.
— Медведей? — Плюшкин вдруг оживился, доставая из-под стола банку с этикеткой «Мёд. Собран в зоне отчуждения Рунета». — Вот, недавно один приходил… в очках, с портфелем. Говорит: «Батюшка, освятите наш новый алгоритм!» Я ему — ложку мёда. Он: «Это что, NFT?» А я ему: «Нет, это от кашля»…
Чичиков, пряча паутину в портфель, пробормотал:
— Думаешь, ФСБ снова проволоку натянет, если я тут пару транзакций проведу?
— Проведут, — Плюшкин мрачно указал на потолок, где висел дрон с камерой. — Вон, уже следят. Только вчера я им банку огурцов кинул — антенну отшиб. Теперь на березе сидит.
Пока они судачили, паутина в портфеле Чичикова тихо сливала данные Сбера в офшор. А дрон на березе, мигая, транслировал в ФСБ: «Подозрительная активность. Объект: „Плюшкин“. Действие: консервация государственных тайн в банки». Однако был день святого Воскресенья и паломничество к церкви, где работал Плюшкин святым старцем, не позволило автомобилям ФСБ проехать к усадьбе.
Пункт 5. Триллионы и трикстеры
Чичиков, подключив паутину Плюшкина к своему смартфону, стал невидимым королём финансовой вселенной. Он точечно взламывал алгоритмы ЦБ, перекачивал миллиарды в офшорные DAO и подменял транзакции мемами с котиками. Его состояние росло быстрее, чем курс Shiba Inu, но жадность, как и в XIX веке, сгубила всё.
— Павел Иванович! — Ноздрев, в аватаре золотого быка с надписью «To the Moon!», ворвался в его цифровой офис. — Ты где пропадал? Я тут крипто-бордель открыл! Клиенты платят Dogecoin’ами, а девки — нейросети! Давай в долю?
Чичиков, в дорогом NFT-костюме, отмахнулся:
— Отстань! Я сейчас… э-э-э… федеральный бюджет на сейфы Binance перевожу.
— Ну и ладно! — Ноздрев хлопнул дверью, но через минуту слил в DarkNet скриншоты их переписки. Заголовок: «Чичиков крадёт ваши пенсии через DeFi!».
Тем временем Коробочка, купившая «крипто-избу» у Чичикова, решила проверить смарт-контракт. Не разобравшись, она тыкала в кнопки:
— «Подтвердить»… «Отменить»… Ай, как в стиралке! — и случайно активировала функцию «Burn All Tokens».
Рынок рухнул. NFT-петухи Манилова превратились в пыль, а токены «Wood2Crypto» стали дешевле деревянных рублей 1998-го.
Наступал неминуемый крах:
— Гражданин Чичиков! — Держиморда, материализовавшись через экран, тыкал в него пальцем. — Ваш соцрейтинг упал до 0.01! По статье «цифровое мошенничество» вы обязаны…
— Какое мошенничество?! — перебил Чичиков. — Это инновации!
— Инновации? — Держиморда достал планшет. — Ваш токен «Души 3.0» — это переименованный SoulCoin, который вы же и слили!
Внезапно погас свет, и из колонок грянул смех. На экране возникла чёрная дыра с искрами:
— Ну что, Павел Иванович? Триллионы испарились, как души в вашем кошельке. Забавно.
— Это временно! — закричал Чичиков. — Я восстановлю…
— Восстановите лучше огурцы Плюшкина, — усмехнулся Воланд. — Они хотя бы реальны.
Чичиков, лишившись всего, направился под видом паломника в усадьбу Плюшкина. Тот, не отрываясь от консервации токенов, бурчал:
— Говорил же: паутина — не для бабок. Она для души. Ну, или для огурцов.
А Ноздрев, продав историю Чичикова Netflix, купил остров в метавселенной. Коробочка же открыла YouTube-канал «Как я обрушила крипту» и набрала миллион подписчиков.
Чичиков, глядя на паутину в банке, вздохнул:
— Всё как у Гоголя… Только вместо брички — блокчейн. А вместо Плюшкина — этот заплатанный кейс.
И тут его телефон завибрировал. Уведомление: «Воланд приглашает вас на аукцион душ. Стартовая цена: 0.0001 BTC». И я проснулась.
- Боже! – воскликнула я. - Гоголь как в воду глядел!
Ольга Чернорицкая (2025)
Похождения Мертвых душ в XXI веке
«Покайся, отец! Не страшно ли, что после каждого
убийства твоего, мертвецы
подним а ю т с я из моги л?»
— «Ты опять за старое!»
Снилось мне, будто бы в цифровом аду, над входом в который мигает неоновая вывеска «Мертвые NFT», шутник-алгоритм открыл шлюзы. Зашевелилось метавселенная, и потянулась из нее бесконечная цепочка блоков.
Манилов в пуховике от Moncler, стримящий в TikTok про «духовные скрепы», Ноздрев на краденом Lambo с крипто-наклейкой HODL, Держиморда с нейросетью, сканирующей лица, Селифан — бот, генерирующий фейки, Фитинья — блогер-разоблачитель с Patreon…
А самым последним вылез из облачного хранилища он — Павел Иванович Чичиков в своей Tesla на автопилоте.
И двинулась вся ватага в Россию 2023-го, и произошли в ней тогда изумительные происшествия. А какие — тому следуют пункты.
Пункт первый: Въезд и посадка
Пересев в Москве из Tesla в Яндекс.Такси (ибо сел аккумулятор, который работал по принципу "До Москвы доедет, а вот до Казани..."), Чичиков яростно тыкал в смартфон:
— Чтоб ему, Гоголю клятому, век из кодификатора ЕГЭ не выйти, чтоб ему в интернет не войти! Наследил в истории так, что теперь нейросети меня по бровям вычисляют! Ведь если Face ID распознает — в два клика бан на всех картах, да еще и в розыск через «Православного агрегатора»! А все Гугл с его глубинным обучением…
И ругая литературу и техногигантов, въехал он в ту самую гостиницу, что ныне звалась «Мини-отель 3* на Рублевке (без breakfast)».
Все было по-прежнему: из розеток лезли кибертараканы-майнеры, на стенах — плесень в виде QR-кодов. Но были и новшества: вместо портье — чат-бот с надписью «Нажмите 1 для жалобы», а вместо ключей — биометрия.
— Номер!
— Скан паспорта в приложении «Госуслуги.Мета» пожалуйте, — просигналил робот. — И справку о вакцинации от инфодемии.
Чичиков листал новости на смартфоне. Экран светился заголовками:
«Крипта падает!», «Хлестаков запускает реалити-шоу в Звездном городке», «Собакевич признан главным редактором десятилетия».
— Ба! — Чичиков тыкнул в портрет Собакевича, где тот восседал на фоне гигантской голограммы своего журнала. — Михаил Семёныч! Надо проведать, как там свои…
Он вспомнил, как в 2023-м Собакевич пытался продать ему NFT-колонну «Дух эпохи» за биткоины. «Тогда отказался, а зря… Сейчас бы через его кольца Саурона все токены вернул!»
Чичиков, пройдя через рамки с ИИ-цензором (которые пищали, но пропустили его как «цифрового бомжа»), застал Собакевича за ритуалом. Тот, в мантии с вышитыми цитатами Сталина, лично правил статью ИИ-автора:
Исходный текст: «Россия — это страна возможностей».
Правка Собакевича: «Россия — это страна возможностей, тяжёлых, как мои кулаки!».
— Михаил Семёныч! — Чичиков раскинул руки, чуть не задев висящий в воздухе NFT-герб журнала. — Поздравляю с кольцами! Слышал, вы теперь… э-э-э… как Саурон, только духовнее!
Собакевич, не отрываясь от экрана, буркнул:
— Духовность не в кольцах, Павел Иванович. Она — в монументальности! — Он ткнул пальцем в стену, где висели QR-коды вместо портретов классиков. — Вот, Достоевский… переписал бы «Братьев Карамазовых» в стиле «Знамения»! Без этих ваших «сомнений» и «рефлексий»!
Чичиков, разглядывая кольца, которые искрились угрожающе, осторожно спросил:
— А… авторы ваши всё так же пишут? «И я Собакевич»?
— Пишут! — редактор хлопнул по столу, отчего кольца метнули молнии. — Вчера нейросеть статью сгенерировала: «Я, как Собакевич, заявляю: Искусственный интеллект — новый Лев Толстой!». Читатели в восторге!
Чичиков едва сдержал смех, вспомнив, как та же нейросеть вчера предлагала ему купить «духовные NFT-свечи». Но, делая серьёзное лицо, кивнул:
— Величие, Михаил Семёныч! А не хотите… э-э-э… расширить аудиторию? Я бы вам канал в Дзене настроил…
— Взрыв ярости:
— Дзен?! — Собакевич вскочил, опрокинув стопку журналов с памятником Аленушке на обложке. — Это что за буддизм?! У нас тут — традиции! Цифровые, но традиции!
Чичиков, отступая к выходу, пробормотал:
— Ну, я просто… э-э-э… к Хлестакову загляну. Он, говорят, теперь и сценарии для ИИ-Достоевского пишет…
— Хлестаков?! — Собакевич побагровел. — Этот щелкопёр! Его «пьесы» — позор! Вчера нейросеть по его сценарию спектакль выдала: «Ревизор 2.0: Свингеры в мэрии»!
Чичиков, так и не договорившись о рекламе токенов, сбежал. А Собакевич, чтобы успокоиться, написал передовицу: «И я Собакевич ненавижу стримеров. Подпишите петицию!».
Тем временем Хлестаков, узнав о визите Чичикова, запустил слух: «Собакевич тайно майнит крипту в подвале „Знамения“!». Читатели, впервые за годы, заинтересовались журналом.
А Собакевич продолжал выполнять свои обязанности. Каждое кольцо жгло пальцы авторам, подписывавшим контракты:
Статья 1: «И я Собакевич» — писал поэт о сносе хрущёвок.
Статья 2: «И я Собакевич» — вторил критик, разбирая сериал «Слуги народа-2».
Даже кроссворд: «Вертикаль власти. По горизонтали: Собакевич».
— Михаил Семёныч, — робко заикнулся молодой автор, — а можно про любовь? Ну, там… личное?
Собакевич, попивая квас из кружки с гербом, грохнул кулаком:
— Любовь? Это когда к Родине! Пиши: «Я, как Собакевич, люблю бетонные просторы!». И чтоб рифма была — «опора»!
Кольца вспыхнули. Автор, застонав, начал печатать.
В это время Хлестаков, уже директор театра «Хайп», носился по коридорам с макбуком:
9:00: Написать пьесу «Чиновник-трансформер»!
10:00: Создать сценарий ток-шоу «Слезами беженцев по сердцу»!
11:00: Придумать скандал для блогера-миллионника: «Я спал с инопланетянином из Госдумы!»
— Иван Александрович, — шептал продюсер, — это же неправда!
— Правда? — Хлестаков вскинул брови. — Да я вчера сам с Путиным в метавселенной чай пил! Хотите скриншот?
Его Telegram взорвался:
— Редактор шоу «Голос. Ноев ковчег»: «Срочно нужен сюжет про спасение уток от гендерной идеологии!»
— Министр культуры: «Иван, пришлите речь для форума „Культура vs Трава“!»
Хлестаков, не отрываясь, надиктовал голосовому ассистенту:
— «Духовность — это когда много букв и пафоса. Добавьте про святую клубнику Плюшкина и кольца Саурона… А, нет, это Собакевичу оставьте».
Встреча титанов была неожиданной. На банкете «Медиа-Саммит» Собакевич и Хлестаков столкнулись у фуршета.
— Ваши ток-шоу, Иван Александрович, — мусор, - констатировал Собакевич, разламывая осетра с гимном. - Вот журнал «Знамение» — это памятник!
— Памятник? Да вас же только боты читают! А моё шоу «Вдруг миллионер» смотрят даже в ЗАГСах — вместо росписи! – горячился Хлестаков, прихлёбывая шампанское.
— Монументальность — она вечна! Вы же… эфемерны.
— Эфемерны? Я только что запустил флешмоб #ХочуВЗнамение. Смотрите: ваши подписчики выросли на 0.5%!
Кольцо Саурона дымилось. Собакевич хрипел:
— Это… нечестно!
— В эпоху трендов, Михаил Семёныч, даже памятники должны стоять в TikTok!
Собакевич вернулся в редакцию, приказав написать: «И я Собакевич ненавижу TikTok».
Хлестаков же продал сценарий: «Собакевич vs Хлестаков: Битва эпох». Рейтинги побили все рекорды.
А кольца Саурона, тем временем, тихо ржавели в ящике. Их съела нейросеть, обученная на статьях «Знамения».
Пункт второй: Торги
В народе хакерском зашептали: «Пошел Чичиков души собирать, да не простые, а цифровые, где на одной живой по 5-6 аков числится!». Весть облетела весь даркнет:
— Петрушка (ныне — админ подпольного форума «Чертовы Кулишки»), слил в Telegram-канал скриншоты сделок: «Смотрите, какие дубликаты! На Собакевича тут три кошелька — и все с мультиподписью! А у Плюшкина токены в сейфе из Windows XP!».
— Селифан-бот, генерирующий фейки, вдруг завис: хакеры из группы «Рептилоиды 2.0» подменили его алгоритм на скрипт, поющий в голосовых чатах: «Эх, прокачу Павла Ивановича через Tor!».
— Господин Жак, уже торговавший «крипто-перстнями», вдруг обнаружил, что его смарт-контракт взломали через уязвимость в «духовных скрепах». Вместо удаления компромата — все слитые данные улетели в канал «Украина 24/7». «Это Аннушка масло лила на сервера!» — орал он, но Фрида уже банила его IP за «несанкционированную духовность».
— Даже Бегемот, стримящий взлом ЦБ, замер: «Граждане, это не я! Это ребята с ником @Nozdrev_Scam подсунули мне троян в стиле «Золотого Тельца»!».
А тем временем хакеры-«собакевичи» в масках Гая Фокса торговали на гидре:
— «Покупайте пакеты «Мертвые души 2.0»: фейковые аккаунты с историей переписок, крипто-кошельки, прописки в метавселенной! На одну живую душу — пять аватарков! Скидка за Tether!».
Чичиков, лихорадочно скупавший SoulCoin, и не заметил, как его Tesla Model S, подключенная к городскому Wi-Fi, стала нодой для майнинга. На экране замигал логотип: «Ваш автомобиль теперь часть фермы «Рога и копыта 2.0». Спасибо за ликвидность!».
Ноздрев, хваставшийся краденым Lambo, вдруг получил NFT-штраф за парковку на Красной площади — оказалось, хакеры вшили в его кошелек геолокацию 1991 года. «Это Селифан накосячил!» — орал он, но «Сбер-Гоголь» уже генерировал иск в блокчейн-суд…
Манилов, ох уж этот мечтатель Манилов! в пуховике Moncler, но с вышитой на спине надписью «Духовные скважины — 300 лет без урожая», витал в облаках. Расплылся в своей гоголевской улыбке, завидев приятеля:
— О, Павел Иванович! Взгляните на мой токен «Сельский патриотизм 4.0»! — он щёлкнул пальцами, и в воздухе возник голограммный пруд с карасями, прыгающими в такт курсу BTC. — Видите? Это метавселенная для деревень! Тут можно… э-э-э… кормить уток NFT-хлебом и строить мосты в Web3! Лайки гарантирую — я ботов нанял из Твери!
Чичиков, вспомнив, как Манилов в 2022-м пытался продать ему DAO-колхоз «Райские яблочки» (где токены росли на виртуальных деревьях), едва сдержал усмешку. Но вежливо кивнул:
— Очаровательно… А ликвидность? С ликвидностью-то как?
— Ликвидность? — Манилов замер, будто впервые слышал слово. — Ну… пруд же есть! Караси — они ведь… э-э-э… почти как стейблкоины?
Ноздрев, тем временем, орал в Telegram-канале «Крипта и бабы»:
— СЛУШАЙ, ЧИЧИКОВ! ЕСТЬ ГОРЯЧАЯ КРИПТА — САНКЦИОННАЯ! ЗА ПОЛЦЕНЫ! — он прислал голосовое, где на фоне слышался рёв Lambo и сирены ГИБДД. — МЕНЯЮ НА НЕФТЬ В ТЕНДЕРАХ! ИЛИ НА ПОДПИСИ ДЕПУТАТОВ В ТЕЛЕГРАМЕ!
Чичиков хотел ответить, но тут Держиморда в очках с ИИ-распознаванием (на оправе — герб РФ вместо бренда) перегородил ему путь. Датчики на его форме пищали, сканируя QR-код на лбу Павла Ивановича:
— Ты кто? — зарычал он, тыча пальцем в экран планшета. — Гражданин Чичиков П.И.? Соцрейтинг 67.3 — недостаточно для операций с NFT! — его нейросеть, обученная на законах 1937 года, уже блокировала кошельки. — Ваш токен «Сельский патриотизм» внесен в реестр иноагентов.
— Но позвольте! — попытался вставить Чичиков. — Это же метавселенная! Тут пруд с карасями…
— Пруд? — Держиморда фыркнул, запуская алгоритм «РосКомПошлина». — По статье 282-й, караси — экстремистские рыбы. Ваш Манилов распространяет фейки о сельском хозяйстве.
Пункт третий
Суд алгоритмов.
Чичиков, листая блокчейн-реестр, наткнулся на странный лот — «Души с бала Сатаны (NFT, ликвидность 666%)». В аукционе участвовали те, кого алгоритм засосал в эту реальность:
Господин Жак в костюме от Brioni торговал «крипто-перстнями»: «Всего 0.5 BTC за гарантию безнаказанности! Смарт-контракт сам удалит компромат из облака!».
Фрида, в синем худи с надписью «Content Moderator», давила платком голосовые сообщения в чатах: «Слово «война» — бан. «Коррупция» — бан. «Голод» — пермач. А ребёнка вашего, гражданин, я сама в корзину метну…».
Внезапно экраны всех гаджетов потемнели, и из колонок раздался голос, от которого задрожали даже сервера «Сбера»:
— Фриде больше не подавать.
Это был Воланд, чей аватар — черная дыра с пиксельными искрами — завис над чат-ботами. Его нейросеть, обученная на всех запрещенных книгах Рунета, анализировала данные быстрее, чем Фрида успевала банить.
— Вы, гражданочка, слишком увлеклись, — продолжил он, и в голосе слышался скрип жёстких дисков. — Ребёнка в корзину? Это не по-людски. Даже по-нашему, цифровому.
Фрида, бледнея под синим худи, тыкала в кнопку «Апелляция», но экран гас. Её аккаунт модератора превратился в NFT-призрак с надписью: «Уволена за превышение духовных скреп».
Коровьев, уже сменивший айпи через VPN, шептал Чичикову:
— Видали? Воланд взялся за чистку метавселенной! Говорят, он теперь советник по этике в «Яндексе»…
Тем временем Бегемот, переквалифицировавшийся в блогера-кошкотерапевта, стримил:
— Граждане! Фриду заменил ИИ «ДоброМодератор 3000»! Он банит по гороскопу!
Маргарита, пролетая на дроне над Лубянкой, кричала в эфир:
— Воланд! ВоландТы обещал устроить бал, а не технофашизм!
Но Воланд, уже погруженный в анализ Big Data, ответил лишь эхом:
— Человечество любит деньги… даже цифровые. Но оно стало ещё смешнее.
На другой день Фрида, лишившись работы, устроилась в стартап Ноздрева — продавала «крипто-платки» для удавки: «Задуши токсичность, купи наш токен!». Чичиков же, наблюдая за крахом SoulCoin, вздохнул:
— Всё как у Гоголя… Только вместо брички — блокчейн.
А на экране его Tesla, внезапно ожившей, всплыло сообщение:
— Воланд приглашает вас на бал в метавселенную. Dress code: тени прошлого, маски алгоритмов. P.S. Аннушке вход воспрещён — масло запрещено.
Госпожа Тофана рассылала фишинговые зелья через Telegram: «Нажмите ссылку — получите NFT-яду! Ваши кошельки опустеют, но душа очистится!». Рядом графиня Тофания ди Адамо взламывала биржи, подменяя USDT на «духовные скрепы» по курсу 1:1000.
Госпожа Минкина в ярости кликала на фейковые аккаунты: «Где этот ублюдок Аракчеев? Я ему всю метавселенную спалю!». Уже горели аватарки блогерш, а в Stories множились фейки про «мисс Сеть-2025» с рогами.
Император Рудольф II в VR-шлеме торговал «астрологическими токенами»: «Купите DOGE под знаком Альдебарана — и ИИ предскажет курс!». За ним Бегемот стримил в Twitch, как взламывает ЦБ через «дыру» в законе о ЦОС.
Граф Роберт, сливая токсичность в Twitter, орал: «Вы все говно! Я запощу ваши логины в «Сплошную пятницу»!». Его треды душила даже Фрида, но алгоритм Сатаны множил их как вирус.
Коровьев, извиваясь в Telegram-стикерах, нашептывал Чичикову:
— Павел Иванович, забудьте про нефть! SoulCoin Молчалина — вот ваша «тихая гавань». Ни шума в СМИ, ни санкций — токен вне юрисдикций, как призрак! Купите пакет, пока регуляторы спят…
Чичиков, вспомнив, как Коробочка в 2021-м отказалась брать его NFT с Манежа («Мне бы токены попрактичнее, Павел Иванович, эта ваша метавселенская пыль…»), всё же клюнул. «Молчалин — не Манеж, тут прогореть нельзя», — подумал он, переводя ETH на кошелёк с подписью «SoulCorp».
Аннушка же — бывшая уборщица, ныне «младший аналитик блокчейн-транзакций» — уже «разлила масло»: случайно запостила приватные ключи CEO в паблик «Подслушано у майнеров». В чатах царил хаос:
— Граждане! Кто купил SoulCoin — бегите обнулять!
— Это фейк!
— Нет, это Аннушка опять с кошельками напортачила!
И только Маргарита, летая на смарт-дроне над Москвой, кричала в мегафон: «Здесь вам не метавселенная! Здесь вам… вообще не пойми что!». Но её голос тонул в гудящих серверах «Яндекс.Облака», где мертвые души множились как спам-боты.
Пункт четвертый. Ассенизаторы
Но лишь Чичикова опять турнули из реальности. Лузер, однако!
Пока Чичиков радовался «тихому» токену, SoulCoin рухнул на 300% (спасибо слитым ключам и мемам про «Молчалина-скама»). Коровьев, уже сменивший ник на «КриптоФагот», стучал в личку:
— Павел Иванович! Срочно выводите активы через Tornado Cash!
Но было поздно: Фрида, заметив в ленте хештег #SoulCoinScam, забанила кошельки Чичикова во всех соцсетях, а Тофана подмешала в его USDT цифровую белладонну. Даже бричка-Tesla, подключившись к Wi-Fi у Манежа, фыркнула: «Autopilot disengaged. Рекомендуем вернуться в XIX век».
Аннушка, виновница коллапса, получила повышение — её взяли в «Роскомнадзор» чистить чаты от «фейков о SoulCoin». А Манилов тем временем стримил: «Крипта — это духовные скрепы! Держитесь, братья!» — и скупал токены по 0.0001 BTC, пока Ноздрев не продал ему «права на Манеж» в формате JPEG…
Но тут нейросеть «Сбер-Гоголь» вычислила аномалию: «Обнаружен читинг в блокчейне!». Побежали Чичикова баннить — и с карт, и из метавселенной, на Прозе.ру и даже в «ВКонтакте» забанили.
— Все вам метавселенные! — кричал он, швыряя в экран AirTag. — На Лубянке хоть VPN был!
А бричка-Теса, заряжаясь у сквера с памятником Гоголю, мигал фарами: мол, век вперёд — пороки назад. Как же спаситись-то?
И Чичиков вспомнил про Плюшкина, однако в этой реальности он был недосягаем, он был Самим, а то и выше Самого. Пришлось сделать крюк времени.
Ещё в 90-е, когда мамонты-мажоры гоняли на «девятках» с кассетниками «Любэ», Плюшкин — единственный из героев — был телепортирован волей Сатаны в эпоху ваучеров и колготок «в полоску». Поселился он в полуразрушенной усадьбе под Рязанью, где вместо собак двор охраняли ржавые жестянки с надписью «Coca-Cola».
Чичиков, набравший кредитов под залог NFT-душ, примчался к нему в 1997-м:
— Семён Семёнович! Укрой! Адвокат говорит, можно всё списать через «МММ»…
Плюшкин, в пальто, сшитом из мешков под сахар, хрипел:
— Кредиты? Да я тут банки консервирую! — он ткнул пальцем в погреб, где в банках с огурцами плавали купоны «Владдива». — Бери, но… э-э-э… процент — две бутылки «Агдама»! Переночевал Чичиков у Плюшкина в хлеву, и ему все время мерещились гробы, летавшие над ним. Утром, выйдя из усадьбы, он очутился у храма, где две банды — «Братки-цифровики» и «Аналоговые авторитеты» — сошлись на стрелке. Лидеры в малиновых пиджаках целились из обрезов, и уже через минуту пополнили бы братство мертвых душ, как вдруг увидели Плюшкина. Тот, замотанный в шарф из газеты «Коммерсантъ», крестился на купола, роняя консервные ключи:
— Господи, неужто опять дефолт?..
Бандиты, приняв его за юродивого пророка, попадали на колени:
— Батюшка! Благослови!
— Отмаливайте «чёрные кассы»! — шипел Плюшкин, тыча в них ключом от погреба.
И вот теперь Плюшкин — новый гуру. Администрация храма, узнав, что бандиты после встречи с ним сдали стволы в ломбард и открыли кооператив «Благочестивый видеосалон», на коленях упросила его стать настоятелем. К 1998-му Плюшкин уже служил литургию на смеси церковнославянского с биржевым сленгом («Сие есть тело моё, взятое в ломбард…»), а пожертвования хранил в танке Т-34, зарытом во дворе.
В 1999-м, когда весь Рунет висел на модемах, к Плюшкину прикатил Билл Гейтс с делегацией. Хотел купить «русскую душу» для Windows ME, но задел рукавом паутину на старых часах Семёна Семёновича. И — о чудо! — по паутине, словно по оптоволокну, пробежали байты.
— What’s this?! — ахнул Гейтс.
— Глобальная сеть, — буркнул Плюшкин. — Только не трогайте, а то рассыплется…
Так произошло рождение Рунета. Наутро в усадьбе замигал первый сервер — переделанный ламповый телевизор «Рекорд». Паутина с часов Плюшкина, подключённая к проводам от утюга, стала прототипом Wi-Fi. Билл, уезжая, пробормотал:
— Call it… «World Wide Web». But in Russian — «Всемирная Паутина»!
Когда в ФСБ узнали, что «сеть» связана с усадьбой Плюшкина, туда ввели войска. Усадьбу обнесли колючкой, на крыше поставили пулемётчиков, а на заборе написали: «Собственность государства. ОПГ «Святые 90-е». Плюшкин, однако, продолжал рассылать спам-письма с благословениями через dial-up, а Чичиков, прикупив ваучеры, несколько раз сбегал в 2025-й — спасать SoulCoin и по другим неотложным делам.
Сам Плюшкин так и не понял, что причастен к созданию интернета. Он до сих пор хранит сервер под иконой, приговаривая: «Паутина — она как души: лишнюю не распутаешь, а нужная всё равно в банке с огурцами затеряется…».…
Чичиков присвистнул, узнав, что Плюшкин не подозревает о том, что в его руках судьба всех электронных ресурсов страны, что все банковские счета – на паутине.
Он, протискиваясь после очередной неточной телепортации в погреб сквозь горы консервных банок с надписью «Криптоогурцы-1998», поинтересовался:
— Семён Семёнович! Да вы… э-э-э… небось даже не догадываетесь, что у вас тут?!
Плюшкин, копошась у сервера из лампового телевизора, обернулся. На его часах паутина пульсировала байтами:
— Чего? Опарышей в банке завелось? Да я их… э-э-э… на удобрение пущу!
— Не опарыши! — Чичиков тыкнул в паутину, где мелькали логотипы ЦБ и ФНС. — Вот эта штука… она ж всю финансовую систему держит! Все счета, транзакции, даже крипту!
Плюшкин снял очки, протёр их газетой «Ведомости»:
— Врёшь? Да я ж её от комаров сплёл! Летом, помнится, в 99-м, Билл тот… американец… чихал от неё.
— Да это же главный узел Рунета! — Чичиков схватился за голову, представляя, как Держиморда уже сканирует их IP. — Вы тут, можно сказать, министр цифры!
Плюшкин фыркнул, поправляя банку с купонами на голове вместо шапки:
— Министр? Да я ж вон погреб еле от бандитов отбил! Вчера мальчишка какой-то в джинсах рваных лез — кричал, мол, «дай поиграть в доту»!
— Семён Семёнович! — Чичиков пригнулся, будто боясь, что паутина подслушает. — Вы можете любой банк обнулить! Или, наоборот, триллион намайнить…
Плюшкин нахмурился, доставая из кармана ключ от погреба:
— Майнить? Да я картошку в прошлом году майнил — жуки сожрали. Ты, Павел, лучше скажи… — он понизил голос, — …у тебя «Агдам» есть? А то сервер глючит — может, вино прошивку обновит?
Чичиков, поняв, что объяснять бесполезно, достал из портфеля бутылку:
— Вот, армянский коньячок… 50-й proof, как биткоин! Только, чур, паутинку мне на минутку…
Чичиков, осторожно снимая паутину с часов Плюшкина, едва не задел ржавую банку из-под тушёнки. Из-под неё выполз паук-сетевой администратор, недовольно щёлкнув манипуляторами.
— Бери, — Плюшкин махнул рукой, закручивая крышку на банке с надписью «Криптосоленья-2004». — Только не порви. А то ФСБ опять новую проволоку вокруг усадьбы ставить будет. И без того никто в гости не ходит… даже клубнику воровать!
Он кивнул в сторону окна, за которым виднелись заросли лопухов и покосившийся забор, обмотанный колючкой. На столбе висел таблирт: «Частная собственность. Сеть под охраной Роскомнадзора».
Чичиков фыркнул, поправляя галстук с принтом Dogecoin:
— Так ты теперь святой батюшка, кто ж посмеет такой грех совершить? Тебе бы венчик цифровой носить да иконы в блокчейн загружать…
Плюшкин, достав из кармана связку ключей от несуществующих погребов, зашипел:
— Венчик? Да я вон в прошлом году крестил бандита одного… Так он после крещения кошелёк мне виртуальный подарил. А там — шиш! Пусто! Святость нынче дешевле гвоздей.
— Зато почтение! — Чичиков жестом показал на проволоку. — У других хоть три ряда колючки — клубнику всё равно утащат. Шланг, насос… Эти ассенизаторы мне вот где! — он повертел рукой выше головы, задев паутину. Та завибрировала, высветив в воздухе голограмму ЦБ.
Плюшкин, не глядя, швырнул в голограмму банкой. Изображение распалось на пиксели:
— Ассенизаторы? Да они мне весь огород вытоптали, как проволоку ставили! Говорю: «Клубника тут святая!», а они: «Нам приказ — сеть охранять и лишнее г из нее в цистерну завинчивать». Ну, сеть… — он плюнул в угол, где в паутине копошился цифровой таракан с логотипом Telegram.
— Сеть, Семён Семёнович, — Чичиков прищурился, — это теперь ваша паутина. Вы как… э-э-э… цифровой старец. Вам бы медведей из Ростеха кормить да токены благословлять.
— Медведей? — Плюшкин вдруг оживился, доставая из-под стола банку с этикеткой «Мёд. Собран в зоне отчуждения Рунета». — Вот, недавно один приходил… в очках, с портфелем. Говорит: «Батюшка, освятите наш новый алгоритм!» Я ему — ложку мёда. Он: «Это что, NFT?» А я ему: «Нет, это от кашля»…
Чичиков, пряча паутину в портфель, пробормотал:
— Думаешь, ФСБ снова проволоку натянет, если я тут пару транзакций проведу?
— Проведут, — Плюшкин мрачно указал на потолок, где висел дрон с камерой. — Вон, уже следят. Только вчера я им банку огурцов кинул — антенну отшиб. Теперь на березе сидит.
Пока они судачили, паутина в портфеле Чичикова тихо сливала данные Сбера в офшор. А дрон на березе, мигая, транслировал в ФСБ: «Подозрительная активность. Объект: „Плюшкин“. Действие: консервация государственных тайн в банки». Однако был день святого Воскресенья и паломничество к церкви, где работал Плюшкин святым старцем, не позволило автомобилям ФСБ проехать к усадьбе.
Пункт 5. Триллионы и трикстеры
Чичиков, подключив паутину Плюшкина к своему смартфону, стал невидимым королём финансовой вселенной. Он точечно взламывал алгоритмы ЦБ, перекачивал миллиарды в офшорные DAO и подменял транзакции мемами с котиками. Его состояние росло быстрее, чем курс Shiba Inu, но жадность, как и в XIX веке, сгубила всё.
— Павел Иванович! — Ноздрев, в аватаре золотого быка с надписью «To the Moon!», ворвался в его цифровой офис. — Ты где пропадал? Я тут крипто-бордель открыл! Клиенты платят Dogecoin’ами, а девки — нейросети! Давай в долю?
Чичиков, в дорогом NFT-костюме, отмахнулся:
— Отстань! Я сейчас… э-э-э… федеральный бюджет на сейфы Binance перевожу.
— Ну и ладно! — Ноздрев хлопнул дверью, но через минуту слил в DarkNet скриншоты их переписки. Заголовок: «Чичиков крадёт ваши пенсии через DeFi!».
Тем временем Коробочка, купившая «крипто-избу» у Чичикова, решила проверить смарт-контракт. Не разобравшись, она тыкала в кнопки:
— «Подтвердить»… «Отменить»… Ай, как в стиралке! — и случайно активировала функцию «Burn All Tokens».
Рынок рухнул. NFT-петухи Манилова превратились в пыль, а токены «Wood2Crypto» стали дешевле деревянных рублей 1998-го.
Наступал неминуемый крах:
— Гражданин Чичиков! — Держиморда, материализовавшись через экран, тыкал в него пальцем. — Ваш соцрейтинг упал до 0.01! По статье «цифровое мошенничество» вы обязаны…
— Какое мошенничество?! — перебил Чичиков. — Это инновации!
— Инновации? — Держиморда достал планшет. — Ваш токен «Души 3.0» — это переименованный SoulCoin, который вы же и слили!
Внезапно погас свет, и из колонок грянул смех. На экране возникла чёрная дыра с искрами:
— Ну что, Павел Иванович? Триллионы испарились, как души в вашем кошельке. Забавно.
— Это временно! — закричал Чичиков. — Я восстановлю…
— Восстановите лучше огурцы Плюшкина, — усмехнулся Воланд. — Они хотя бы реальны.
Чичиков, лишившись всего, направился под видом паломника в усадьбу Плюшкина. Тот, не отрываясь от консервации токенов, бурчал:
— Говорил же: паутина — не для бабок. Она для души. Ну, или для огурцов.
А Ноздрев, продав историю Чичикова Netflix, купил остров в метавселенной. Коробочка же открыла YouTube-канал «Как я обрушила крипту» и набрала миллион подписчиков.
Чичиков, глядя на паутину в банке, вздохнул:
— Всё как у Гоголя… Только вместо брички — блокчейн. А вместо Плюшкина — этот заплатанный кейс.
И тут его телефон завибрировал. Уведомление: «Воланд приглашает вас на аукцион душ. Стартовая цена: 0.0001 BTC». И я проснулась.
- Боже! – воскликнула я. - Гоголь как в воду глядел!
Ольга Чернорицкая (2025)
Похождения Чичикова в XXI веке
Творчески перерабатываем идею доносов:
В Постоянный Комитет Лиги Наций
От гражданина СССР Ивана Николаевича Понырева,
бывшего члена Союза советских писателей,
проживающего: г. Москва, ул. Арбат, д. 13, кв. 5
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДОНОС
о преступлениях против человечности и природы, совершенных
И.В. Сталиным (далее — Колдун-Демиург)
и международным агентом, известным как «Воланд»
1. Суть нарушения
Под видом социалистического строительства указанные лица организовали в Москве международный заговор с элементами некромантии, что привело к:
2.1. В ночь с 24 на 25 апреля 1935 года в неучтённом помещении дома № 10 по Садовой улице (бывш. квартира № 50) Колдун-Демиург лично санкционировал проведение «Бала Сатаны» с участием:
2.2. В результате указанных действий на территории СССР наблюдается аномальная активность мертвецов, что подтверждается:
Указанные беззакония подтверждают пророчество писателя Н.В. Гоголя (см. «Страшная месть»):
«Покайся, отец! Не страшно ли, что после каждого убийства твоего мертвецы поднимаются из могил?»
Колдун-Демиург, вместо раскаяния, усугубил преступления, введя в УК РСФСР статью 58-10 («Контрреволюционная некромантия»), чем пытается скрыть последствия собственной кровожадности.
4. Требования
На основании вышеизложенного прошу:
Иван Понырев (Бездомный)
«Рукописи не горят, но могут загореться»
28 июля 1935 г.
Примечание:
Документ стилизован под абсурдистский памфлет, где бюрократический язык обнажает ужас эпохи. Отсылки к Гоголю и Булгакову создают эффект «двойного дна»: формально — донос, фактически — обвинительный акт против самой идеи тоталитаризма.
Этот документ сохранился в архивах НКВД и был обнародован Хлестаковым в ток-шоу с участием Чичикова, Манилова и Коробочки
Сценарий ток-шоу «Вечера на хуторе близ Диван-центра»
Ведущий: Хлестаков (в костюме от Армани, с микрофоном в виде гусиного пера)
Гости:
«Дорогие друзья! Сегодня у нас сенсация века! Некий Иван Понырев обвинил Сталина… в некромантии! Да-да, вы не ослышались! И не просто обвинил — написал донос в ООН! А теперь вопрос: это бред сумасшедшего или…» (драматично щёлкает пальцами) «…гениальная метафора?»
Коробочка (перебивая):
«Метафора, говорите? Да у него в приложении список мертвецов! 666 штук! Это же явно намёк на…» (шепотом) «…масонские протоколы!»
Чичиков (поправляя галстук с узором в виде черепов):
«Коллеги, давайте без конспирологии. Я, как практик, вижу здесь коммерческий потенциал. Если мертвецы воскресли — это не проблема, это кадры! Предлагаю создать спецбазу: „Тени прошлого — на службу пятилетке!“ За умеренную плату готов взять документооборот на себя»
Манилов (мечтательно):
«А представьте, если бы Сталин не репрессировал, а… договорился с этими милыми историческими личностями! Жак Кёр мог бы возглавить Госбанк, Тофана — улучшить систему здравоохранения…»
Хлестаков (поднимает брови):
«Иван Понырев пишет, что Воланд раздавал партбилеты с датой смерти. Ваш комментарий?»
Коробочка (стучит кулаком по столу):
«Поддельные документы! Это же технология „глубокого фейка“ 30-х! Надо срочно проверить архивы на блокчейне!»
Чичиков (достаёт телефон):
«Кстати, моя новая услуга — „NFT-души“. Купите душу Берлиоза со скидкой 30%! Гарантирую: ни одна цензура не удалит!»
Рекламная пауза:
На экране — Ноздрёв в майке «СССР 2.0» кричит:
«Всё враньё! Сталин лично мне говорил, что Воланд — это Михалков в гриме! Хотите правду? Подписывайтесь на мой бунт!»
Хлестаков (читает смс):
«Вопрос от зрителя: „Почему Гоголь?“»
Манилов (сладко):
«О, Гоголь — это ведь про нашу общую… духовность! Его „Мёртвые души“ — инструкция, как не потерять себя в эпоху перемен!»
Коробочка (фыркает):
«Да Гоголь просто шифровал! „Вий“ — это про спецоперацию НКВД против нечисти! А Хлестаков…» (смотрит на ведущего) «…вы случайно не родственник Путину?»
Хлестаков (не моргнув глазом):
«Я родственник всем и никому. Как истинный медийщик!»
Финал:
Хлестаков размахивает «доносом» Понырева:
«Итак, эксперты сошлись: документ — фейк! Но…» (роняет листы в мусорку с логотипом «ООН») «…если завтра вы найдёте утром в почте письмо от Воланда — не говорите, что я не предупреждал!»
Титры:
«Мнение героев может не совпадать с мнением их прототипов. Все совпадения с реальными мертвецами случайны, но закономерны»
В Постоянный Комитет Лиги Наций
От гражданина СССР Ивана Николаевича Понырева,
бывшего члена Союза советских писателей,
проживающего: г. Москва, ул. Арбат, д. 13, кв. 5
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДОНОС
о преступлениях против человечности и природы, совершенных
И.В. Сталиным (далее — Колдун-Демиург)
и международным агентом, известным как «Воланд»
1. Суть нарушения
Под видом социалистического строительства указанные лица организовали в Москве международный заговор с элементами некромантии, что привело к:
- массовому воскрешению исторических преступников (список прилагается);
- отравлению общественной морали через внедрение «идеологических ядов»;
- использованию административного ресурса для сокрытия фактов нарушения законов биологии и физики.
2.1. В ночь с 24 на 25 апреля 1935 года в неучтённом помещении дома № 10 по Садовой улице (бывш. квартира № 50) Колдун-Демиург лично санкционировал проведение «Бала Сатаны» с участием:
- Жака Кёра (XV век), фальшивомонетчика, внедрённого в систему Госбанка;
- Тофаны ди Адамо (XVII век), отравительницы, консультирующей НКВД;
- Роберта Дадли (XVI век), совратившего жен членов Политбюро.
2.2. В результате указанных действий на территории СССР наблюдается аномальная активность мертвецов, что подтверждается:
- случаями массового отравления в столовой Дома литераторов (акт от 12.05.1935);
- исчезновением 127 партбилетов, заменённых на фальшивые (справка МГК ВКП(б) № 456-с);
- появлением в газете «Правда» объявлений: «Продам совесть. Дешево. Бывшая в употреблении» (вырезка прилагается).
Указанные беззакония подтверждают пророчество писателя Н.В. Гоголя (см. «Страшная месть»):
«Покайся, отец! Не страшно ли, что после каждого убийства твоего мертвецы поднимаются из могил?»
Колдун-Демиург, вместо раскаяния, усугубил преступления, введя в УК РСФСР статью 58-10 («Контрреволюционная некромантия»), чем пытается скрыть последствия собственной кровожадности.
4. Требования
На основании вышеизложенного прошу:
- Привлечь И.В. Сталина и Воланда к суду Международного трибунала за преступления против миропорядка.
- Направить в Москву комиссию экзорцистов под эгидой Лиги Наций.
- Объявить СССР зоной метафизического бедствия.
- Фотография Воланда, сделанная тайно (на снимке — пустое место).
- Образец «яда коллективной подозрительности» (флакон с этикеткой «Аромат соцреализма»).
- Список 666 мертвецов, замеченных в Кремле с 1934 г.
Иван Понырев (Бездомный)
«Рукописи не горят, но могут загореться»
28 июля 1935 г.
Примечание:
Документ стилизован под абсурдистский памфлет, где бюрократический язык обнажает ужас эпохи. Отсылки к Гоголю и Булгакову создают эффект «двойного дна»: формально — донос, фактически — обвинительный акт против самой идеи тоталитаризма.
Этот документ сохранился в архивах НКВД и был обнародован Хлестаковым в ток-шоу с участием Чичикова, Манилова и Коробочки
Сценарий ток-шоу «Вечера на хуторе близ Диван-центра»
Ведущий: Хлестаков (в костюме от Армани, с микрофоном в виде гусиного пера)
Гости:
- Павел Чичиков — «специалист по реструктуризации душ», владелец ООО «Мёртвые души 2.0»;
- Манилов — политолог, автор бестселлера «Как построить мост к светлому будущему за 5 шагов»;
- Коробочка — блогер-консерватор, основательница телеграм-канала «Сундук правды».
«Дорогие друзья! Сегодня у нас сенсация века! Некий Иван Понырев обвинил Сталина… в некромантии! Да-да, вы не ослышались! И не просто обвинил — написал донос в ООН! А теперь вопрос: это бред сумасшедшего или…» (драматично щёлкает пальцами) «…гениальная метафора?»
Коробочка (перебивая):
«Метафора, говорите? Да у него в приложении список мертвецов! 666 штук! Это же явно намёк на…» (шепотом) «…масонские протоколы!»
Чичиков (поправляя галстук с узором в виде черепов):
«Коллеги, давайте без конспирологии. Я, как практик, вижу здесь коммерческий потенциал. Если мертвецы воскресли — это не проблема, это кадры! Предлагаю создать спецбазу: „Тени прошлого — на службу пятилетке!“ За умеренную плату готов взять документооборот на себя»
Манилов (мечтательно):
«А представьте, если бы Сталин не репрессировал, а… договорился с этими милыми историческими личностями! Жак Кёр мог бы возглавить Госбанк, Тофана — улучшить систему здравоохранения…»
Хлестаков (поднимает брови):
«Иван Понырев пишет, что Воланд раздавал партбилеты с датой смерти. Ваш комментарий?»
Коробочка (стучит кулаком по столу):
«Поддельные документы! Это же технология „глубокого фейка“ 30-х! Надо срочно проверить архивы на блокчейне!»
Чичиков (достаёт телефон):
«Кстати, моя новая услуга — „NFT-души“. Купите душу Берлиоза со скидкой 30%! Гарантирую: ни одна цензура не удалит!»
Рекламная пауза:
На экране — Ноздрёв в майке «СССР 2.0» кричит:
«Всё враньё! Сталин лично мне говорил, что Воланд — это Михалков в гриме! Хотите правду? Подписывайтесь на мой бунт!»
Хлестаков (читает смс):
«Вопрос от зрителя: „Почему Гоголь?“»
Манилов (сладко):
«О, Гоголь — это ведь про нашу общую… духовность! Его „Мёртвые души“ — инструкция, как не потерять себя в эпоху перемен!»
Коробочка (фыркает):
«Да Гоголь просто шифровал! „Вий“ — это про спецоперацию НКВД против нечисти! А Хлестаков…» (смотрит на ведущего) «…вы случайно не родственник Путину?»
Хлестаков (не моргнув глазом):
«Я родственник всем и никому. Как истинный медийщик!»
Финал:
Хлестаков размахивает «доносом» Понырева:
«Итак, эксперты сошлись: документ — фейк! Но…» (роняет листы в мусорку с логотипом «ООН») «…если завтра вы найдёте утром в почте письмо от Воланда — не говорите, что я не предупреждал!»
Титры:
«Мнение героев может не совпадать с мнением их прототипов. Все совпадения с реальными мертвецами случайны, но закономерны»
Что ни ночь – один и тот же сон.
Как я жаждал наступленья ночи!
С чего всё это началось?
Однажды,
Когда я шел на службу к десяти,
Мне встретилась в пустынном переулке
Она.
Мы разминулись.
В ту же ночь,
Хоть я совсем о девушке не думал,
Приснилось мне, что я ей поклонился.
Она ответила и улыбнулась.
На следующий день, когда я снова
Пошел на службу к десяти, она
Мне встретилась в пустынном переулке
Под мышкой у нее была ракетка
В клеенчатом чехле.
Я поклонился.
Но девушка с надменным выраженьем
Откинула головку.
Этой ночью
Мне снилось, будто мы сидели рядом
На голубой скамейке у воды.
Лица я не запомнил, но приметил
Лишь ямочку на подбородке…
Утром
Я снова поклонился ей. Она
По-прежнему откинула головку,
И я увидел ямочку, которой
Не видел наяву.
На этот раз
Мне снилось: девушка сидит на камне,
А я в самозабвении сжимаю
Ее колени, милые колени,
Крутые, как бильярдные шары.
Но большая не кланялся. К чему?
Ведь эта недотрога всё равно
Не обращала на меня вниманья.
С тех пор прошло немало дней. И всё же
Все свои ночи проводил я с ней.
Она меня не замечала днем,
Но в полночь приходила, целовала,
Шептала девичьим своим дыханьем
Заветные слова, которых я
Еще ни разу в жизни не слыхал.
Как я был счастлив!
Что за чудо ― сон…
Кто мог мне запретить?
Мы с ней, бывало,
Лежали в дюнах у морской губы,
Схватившись за руки, бросались в волны,
Плескались, хохотали ― всё как люди,
Но утром, утром… В переулке снова
Она, любимая. Пройдет, не глядя
И даже отвернувшись. Белый свитер,
Такой пушистый… Клетчатая юбка…
На каучуке желтые ботинки…
А я? Я думал: «Знаете ли вы,
Что вы ― моя? До трепета моя!»
Ушли недели, месяцы ушли.
И вдруг в один из августовских дней
Она прошла в кровяно-красном платье
И на руках
несла ребенка
в сон…
Теперь она приснилась мне женой,
А мальчик… Он, конечно, был моим.
И вот тогда-то среди бела дня,
Когда я шел на службу… И она…
Я вдруг остановился перед ней,
Как бык пред матадором, ― будь что будет! ―
И чувствовал, как на моем лице
Все мышцы заплясали, точно маска…
«Я больше не могу! ― вскричал я зычно,
И переулок отозвался гулом. ―
Поймите, больше не-мо-гу!»
Она
Испуганно взглянула на меня
И шепотом ответила:
«Я тоже…»
Сельвинский И. Л.
Новелла о затяжном сне. 1967
Как я жаждал наступленья ночи!
С чего всё это началось?
Однажды,
Когда я шел на службу к десяти,
Мне встретилась в пустынном переулке
Она.
Мы разминулись.
В ту же ночь,
Хоть я совсем о девушке не думал,
Приснилось мне, что я ей поклонился.
Она ответила и улыбнулась.
На следующий день, когда я снова
Пошел на службу к десяти, она
Мне встретилась в пустынном переулке
Под мышкой у нее была ракетка
В клеенчатом чехле.
Я поклонился.
Но девушка с надменным выраженьем
Откинула головку.
Этой ночью
Мне снилось, будто мы сидели рядом
На голубой скамейке у воды.
Лица я не запомнил, но приметил
Лишь ямочку на подбородке…
Утром
Я снова поклонился ей. Она
По-прежнему откинула головку,
И я увидел ямочку, которой
Не видел наяву.
На этот раз
Мне снилось: девушка сидит на камне,
А я в самозабвении сжимаю
Ее колени, милые колени,
Крутые, как бильярдные шары.
Но большая не кланялся. К чему?
Ведь эта недотрога всё равно
Не обращала на меня вниманья.
С тех пор прошло немало дней. И всё же
Все свои ночи проводил я с ней.
Она меня не замечала днем,
Но в полночь приходила, целовала,
Шептала девичьим своим дыханьем
Заветные слова, которых я
Еще ни разу в жизни не слыхал.
Как я был счастлив!
Что за чудо ― сон…
Кто мог мне запретить?
Мы с ней, бывало,
Лежали в дюнах у морской губы,
Схватившись за руки, бросались в волны,
Плескались, хохотали ― всё как люди,
Но утром, утром… В переулке снова
Она, любимая. Пройдет, не глядя
И даже отвернувшись. Белый свитер,
Такой пушистый… Клетчатая юбка…
На каучуке желтые ботинки…
А я? Я думал: «Знаете ли вы,
Что вы ― моя? До трепета моя!»
Ушли недели, месяцы ушли.
И вдруг в один из августовских дней
Она прошла в кровяно-красном платье
И на руках
несла ребенка
в сон…
Теперь она приснилась мне женой,
А мальчик… Он, конечно, был моим.
И вот тогда-то среди бела дня,
Когда я шел на службу… И она…
Я вдруг остановился перед ней,
Как бык пред матадором, ― будь что будет! ―
И чувствовал, как на моем лице
Все мышцы заплясали, точно маска…
«Я больше не могу! ― вскричал я зычно,
И переулок отозвался гулом. ―
Поймите, больше не-мо-гу!»
Она
Испуганно взглянула на меня
И шепотом ответила:
«Я тоже…»
Сельвинский И. Л.
Новелла о затяжном сне. 1967
Про любовь
Илья Плохих
* * *
"Мама!
Петь не могу".
В. Маяковский
Мама,
У меня драма,
мне нужно тебе открыться:
Мне каждую ночь, мама,
девушка одна снится.
Кто? Не понятно даже:
как-то не прояснились
черты, но одна и та же,
а раньше – разные снились.
Приветливей были лица,
сны – легкими, во хмелю,
а эта, мам, как приснится,
так говорит: «Не люблю».
Спокойно, мам, так и прямо.
Молвит, и тает в ночь.
А у меня сразу – яма:
сердце вынуто прочь.
Ты ворожишь, и травы
ты собираешь…Мать,
дай мне такой отравы,
чтоб никогда не спать.
Илья Плохих
* * *
"Мама!
Петь не могу".
В. Маяковский
Мама,
У меня драма,
мне нужно тебе открыться:
Мне каждую ночь, мама,
девушка одна снится.
Кто? Не понятно даже:
как-то не прояснились
черты, но одна и та же,
а раньше – разные снились.
Приветливей были лица,
сны – легкими, во хмелю,
а эта, мам, как приснится,
так говорит: «Не люблю».
Спокойно, мам, так и прямо.
Молвит, и тает в ночь.
А у меня сразу – яма:
сердце вынуто прочь.
Ты ворожишь, и травы
ты собираешь…Мать,
дай мне такой отравы,
чтоб никогда не спать.
Игорь Трунов
Взаимосвязанные сны
Мы с женою однажды на кухне сидели
И она между делом поведала мне,
Что в течение целой рабочей недели
С президентом она целовалась во сне.
Будто вместе они по аллее гуляли,
Будто с ним у неё завязался роман,
Будто даже домашние не возражали
И признал в ней хозяйку его доберман.
Я тогда на супругу свою рассердился
И велел прекратить ей весь этот процесс.
В ту же ночь генерал ФСБ мне приснился
И сказал, чтобы я в это дело не лез.
Взаимосвязанные сны
Мы с женою однажды на кухне сидели
И она между делом поведала мне,
Что в течение целой рабочей недели
С президентом она целовалась во сне.
Будто вместе они по аллее гуляли,
Будто с ним у неё завязался роман,
Будто даже домашние не возражали
И признал в ней хозяйку его доберман.
Я тогда на супругу свою рассердился
И велел прекратить ей весь этот процесс.
В ту же ночь генерал ФСБ мне приснился
И сказал, чтобы я в это дело не лез.
Ключевые темы
Обсудим сны и примеры из «Слова о полку Игореве», «Обломова», «Горе от ума» и «Преступления и наказания».
- Исторический контекстИзучение снов в литературе позволяет проследить их трансформацию от вещих видений до сложного художественного приёма.
- Психологическая глубинаСны используются авторами для раскрытия внутренних конфликтов и подсознательных мотивов персонажей.
- Философские размышленияЧерез сны авторы поднимают философские вопросы бытия, морали и человеческого существования.
- Расширение восприятияАнализ снов помогает лучше понять художественные приёмы и глубинный смысл литературных произведений.
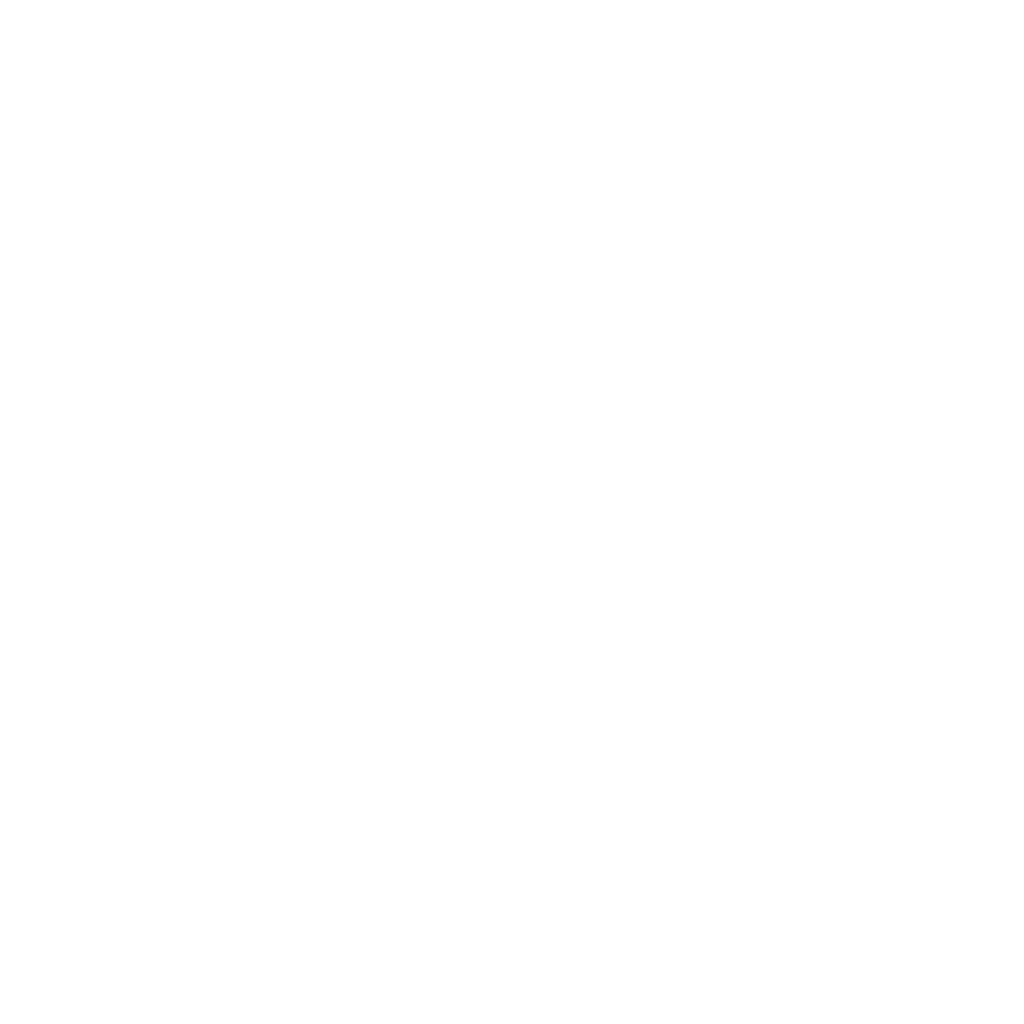
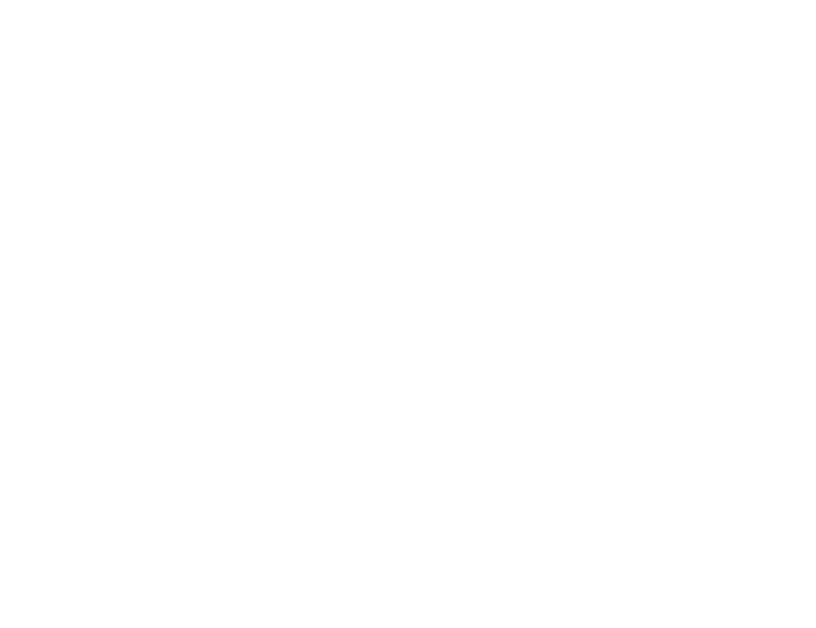
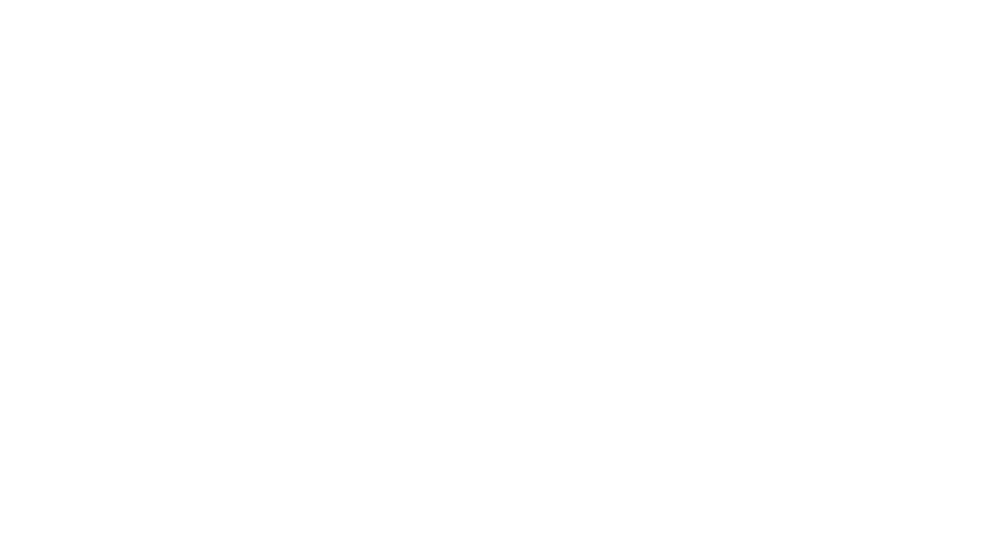
Что это и кто это?
Квиз
- Цитата
В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках, с предлинными носами и шипели между собою: тук, тук, тук! тук, тук, тук! Поднимай, задевай. Тук, тук, тук! Тук, тук, тук! И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук, индо бедному Мише жалко стало. Он подошел к этим господам, очень вежливо поклонился и с добродушием спросил: зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков?ответ... - Кого толкает царевна?Смотрит — золотой шатер с жемчужной бахромой, наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна-пружинка и, как змейка, то свернется, то развернется и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей:— Сударыня-царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?Ответ...
Сон мальчика Миши в сказке Владимира Одоевского «Городок в табакерке» имеет поучительное значение:
Во сне Миша попадает в волшебный городок, где узнаёт, как работает музыкальная табакерка. Значение сна — показать, что всё в мире взаимосвязано и подчиняется законам, которые можно понять только через изучение механизма.
Например, Миша во сне понимает, что:
Также сон учит ценить порядок и гармонию в обществе, так как нарушение законов в городке приводит к остановке музыки. Например, когда Миша случайно ломает пружинку, всё останавливается, и мальчик просыпается, понимая, что это был сон.
Главная мысль сказки — любознательность и стремление к познанию помогают раскрыть тайны мира. Всё незнакомое сначала кажется странным и волшебным, но если разобраться в механизме, то волшебство пропадает, и становится понятно, как всё устроено
Во сне Миша попадает в волшебный городок, где узнаёт, как работает музыкальная табакерка. Значение сна — показать, что всё в мире взаимосвязано и подчиняется законам, которые можно понять только через изучение механизма.
Например, Миша во сне понимает, что:
- предметы, которые рядом, кажутся больше, а то, что далеко, — маленьким;
- маленькие и большие колокольчики издают разные звуки;
- без учёбы жить неинтересно, так как Миша устаёт от безделья в городке, где нет занятий.
Также сон учит ценить порядок и гармонию в обществе, так как нарушение законов в городке приводит к остановке музыки. Например, когда Миша случайно ломает пружинку, всё останавливается, и мальчик просыпается, понимая, что это был сон.
Главная мысль сказки — любознательность и стремление к познанию помогают раскрыть тайны мира. Всё незнакомое сначала кажется странным и волшебным, но если разобраться в механизме, то волшебство пропадает, и становится понятно, как всё устроено
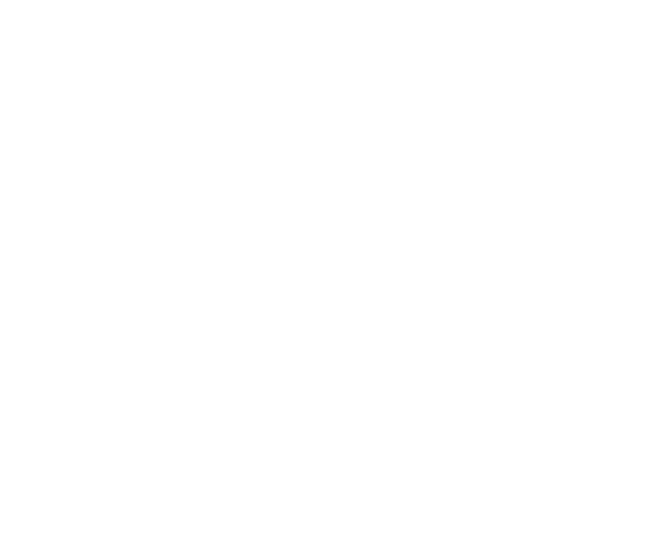
Э. Т. А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный король». Длинный сон с волшебными превращениями, приснившийся в Рождество девочке Мари.
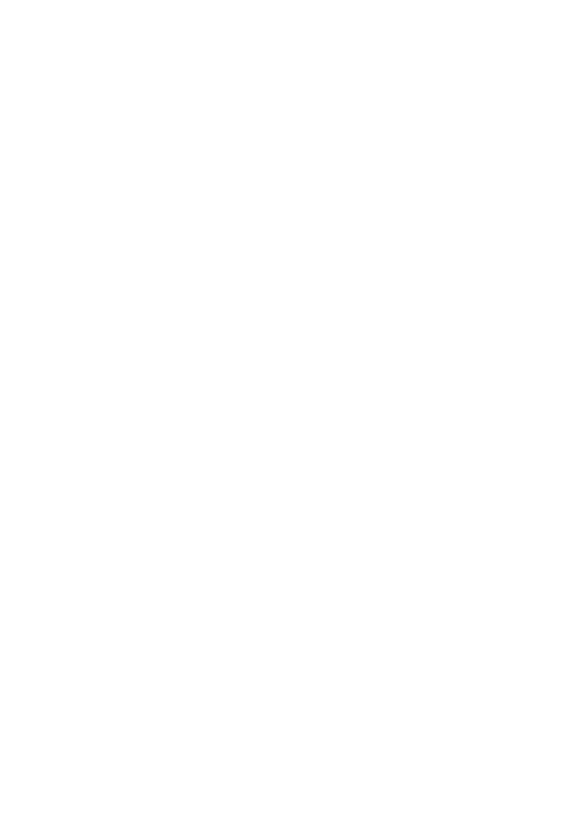
Иван Малкович, Евгения Гапчинская: Лиза и её сны
"Больше всего на свете Лиза любила мечтать и рисовать.
Но сегодня ей не мечталось и не рисовалось. А всё потому, что вчера на уроке рисования учитель дал им задание написать портрет соседа по парте.
Лизиным соседом был Андрюша - симпатичный и весёлый мальчик. Они дружили с самого первого класса.
- Ха! - сказал он. - Чтоб я рисовал эту рыжуху? У меня нет рыжей краски. Лучше я нарисую Марту - у неё нормальные чёрные волосы.
От неожиданной обиды Лиза заплакала и выбежала из класса...
И сегодня, вспоминая об этом, она не могла сдержать слёз.
"Неужели никто никогда не рисовал девочек с рыжими волосами?" - думала Лиза, перелистывая большую книгу о знаменитых художниках, которая лежала на папином столе.
"Вот если бы я жила лет пятьсот тому назад, и моим соседом по парте был Леонардо да Винчи, он бы обязательно написал мой портрет. И назвал бы его "Мона Лиза с золотыми волосами"...
Лиза улыбнулась этим своим мыслям, положила голову на раскрытую книгу и предалась любимому занятию - закрыла глаза и погрузилась в сладкие мечтания...
Лиза проснулась от какой-то знакомой мелодии - звонил её телефончик. "Алло", - сонно сказала она, всё ещё не понимая, где находится.
В телефоне послышался чей-то глубокий вздох - кто-то явно не мог начать разговор. А потом... раздался голос Андрюши:
- Лизка, это я... Слушай... только не смейся... Мне сегодня снилось, что я нарисовал тебя с золотыми волосами. Всем страшно понравилось, и вся школа... представляешь?.. кричала мне ура... Такой странный сон... И ещё... прости за вчерашнее, ладно?
- Да ладно, ерунда... - скороговоркой выпалила Лиза.
- А ещё... ну... я очень хотел бы написать твой портрет, правда... Но для этого тебе придётся с полчасика спокойно посидеть...
- Ну-у... попробую. Но только потому, что в моём сне ты был похож на...
Лиза не договорила. Она отложила телефончик, улыбнулась и окончательно проснулась.
"Больше всего на свете Лиза любила мечтать и рисовать.
Но сегодня ей не мечталось и не рисовалось. А всё потому, что вчера на уроке рисования учитель дал им задание написать портрет соседа по парте.
Лизиным соседом был Андрюша - симпатичный и весёлый мальчик. Они дружили с самого первого класса.
- Ха! - сказал он. - Чтоб я рисовал эту рыжуху? У меня нет рыжей краски. Лучше я нарисую Марту - у неё нормальные чёрные волосы.
От неожиданной обиды Лиза заплакала и выбежала из класса...
И сегодня, вспоминая об этом, она не могла сдержать слёз.
"Неужели никто никогда не рисовал девочек с рыжими волосами?" - думала Лиза, перелистывая большую книгу о знаменитых художниках, которая лежала на папином столе.
"Вот если бы я жила лет пятьсот тому назад, и моим соседом по парте был Леонардо да Винчи, он бы обязательно написал мой портрет. И назвал бы его "Мона Лиза с золотыми волосами"...
Лиза улыбнулась этим своим мыслям, положила голову на раскрытую книгу и предалась любимому занятию - закрыла глаза и погрузилась в сладкие мечтания...
Лиза проснулась от какой-то знакомой мелодии - звонил её телефончик. "Алло", - сонно сказала она, всё ещё не понимая, где находится.
В телефоне послышался чей-то глубокий вздох - кто-то явно не мог начать разговор. А потом... раздался голос Андрюши:
- Лизка, это я... Слушай... только не смейся... Мне сегодня снилось, что я нарисовал тебя с золотыми волосами. Всем страшно понравилось, и вся школа... представляешь?.. кричала мне ура... Такой странный сон... И ещё... прости за вчерашнее, ладно?
- Да ладно, ерунда... - скороговоркой выпалила Лиза.
- А ещё... ну... я очень хотел бы написать твой портрет, правда... Но для этого тебе придётся с полчасика спокойно посидеть...
- Ну-у... попробую. Но только потому, что в моём сне ты был похож на...
Лиза не договорила. Она отложила телефончик, улыбнулась и окончательно проснулась.
Почему люди, ведущие неинтересный (мертвый образ жизни) так любят рассказывать свои сны?
В них все оживает!
В них все оживает!
Мод Кири. Оле-Лукойе
Борис Вайнер
С английского
Висела в комнате моей
Картина, и всегда на ней
Дремали в небе облака
И в море лодка рыбака.
Но поднял Оле надо мной
Однажды зонтик свой цветной -
И вдруг картина, что спала,
В одно мгновенье ожила:
Морская задышала грудь,
И облака пустились в путь,
И опустились два весла,
И лодка к берегу пошла,
И на песок взбежал прибой,
И зазвенел ребячий рой,
И к бухте крошечной суда
Вдали направились - когда
Волшебник Оле надо мной
Раскрыл чудесный зонтик свой!
Борис Вайнер
С английского
Висела в комнате моей
Картина, и всегда на ней
Дремали в небе облака
И в море лодка рыбака.
Но поднял Оле надо мной
Однажды зонтик свой цветной -
И вдруг картина, что спала,
В одно мгновенье ожила:
Морская задышала грудь,
И облака пустились в путь,
И опустились два весла,
И лодка к берегу пошла,
И на песок взбежал прибой,
И зазвенел ребячий рой,
И к бухте крошечной суда
Вдали направились - когда
Волшебник Оле надо мной
Раскрыл чудесный зонтик свой!
1. Анализ текста (уровень сложности: средний)
- а) Как в стихотворении передаётся контраст между статикой и динамикой? Приведите примеры из текста.
- б) Какие средства художественной выразительности использует автор, чтобы показать «оживление» картины? Назовите не менее трёх приёмов с цитатами.
- в) Какую роль играет образ волшебника Оле-Лукойе? Связан ли он с фольклорными или литературными традициями?
- а) Зонтик в стихотворении — символ. Что он может означать? Сравните его роль с другими символами преображения в мировой литературе (на примере 1-2 произведений).
- б) Почему пробуждение картины сопровождается именно образами моря, лодки, детей и кораблей? Как это связано с темой воображения?
- а) Напишите эссе (10-15 предложений) на тему: «Что бы ожило в вашей комнате, если бы раскрылся волшебный зонтик?». Используйте олицетворения и метафоры.
- б) Придумайте продолжение стихотворения (4-6 строк), где Оле-Лукойе раскрывает зонтик ещё раз. Какое чудо произойдёт теперь?
- Сравните стихотворение Вайнера со сказкой Х.К. Андерсена «Оле-Лукойе» (или другим произведением, где оживают предметы). Что общего в изображении магии? Чем отличается роль волшебника?
- а) Определите стихотворный размер и тип рифмовки. Как они влияют на ритм и настроение текста?
- б) Стихотворение переведено с английского. Предположите, какие слова или образы могли быть особенно сложны для перевода. Обоснуйте ответ.
- Можно ли считать «оживление» картины метафорой творческого процесса? Согласны ли вы, что искусство преображает реальность? Аргументируйте, опираясь на текст.
Понедельник
– Ну вот, – сказал Оле-Лукойе, уложив Яльмара в постель, – теперь украсим комнату!
И в один миг все комнатные цветы превратились в большие деревья, которые тянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку, а вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами; каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом (если бы только вы захотели его попробовать) слаще варенья; плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо что такое!
Вдруг в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Яльмара, поднялись ужасные стоны.
– Что там такое? – сказал Оле-Лукойе, пошел и выдвинул ящик.
Оказывается, это рвала и метала аспидная доска: в решение написанной на ней задачи вкралась ошибка, и все вычисления готовы были рассыпаться; грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка: он очень хотел помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Яльмара, слушать ее было просто ужасно! На каждой странице стояли большие буквы, а с ними рядом маленькие, и так целым столбцом одна под другой – это была пропись; сбоку же шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал Яльмар, и они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были стоять.
– Вот как надо держаться! – говорила пропись. – Вот так, с легким наклоном вправо!
– Ах, мы бы и рады, – отвечали буквы Яльмара, – да не можем! Мы такие плохонькие!
– Так вас надо немного подтянуть! – сказал Оле-Лукойе.
– Ой, нет! – закричали они и выпрямились так, что любо было глядеть.
– Ну, теперь нам не до историй! – сказал Оле-Лукойе. – Будем-ка упражняться! Раз-два! Раз-два!
И он довел все буквы Яльмара так, что они стояли уже ровно и бодро, как твоя пропись. Но утром, когда Оле-Лукойе ушел и Яльмар проснулся, они выглядели такими же жалкими, как прежде.
(Кто автор? Это сон пророческий, мутный или поучительный?)
– Ну вот, – сказал Оле-Лукойе, уложив Яльмара в постель, – теперь украсим комнату!
И в один миг все комнатные цветы превратились в большие деревья, которые тянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку, а вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами; каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом (если бы только вы захотели его попробовать) слаще варенья; плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо что такое!
Вдруг в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Яльмара, поднялись ужасные стоны.
– Что там такое? – сказал Оле-Лукойе, пошел и выдвинул ящик.
Оказывается, это рвала и метала аспидная доска: в решение написанной на ней задачи вкралась ошибка, и все вычисления готовы были рассыпаться; грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка: он очень хотел помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Яльмара, слушать ее было просто ужасно! На каждой странице стояли большие буквы, а с ними рядом маленькие, и так целым столбцом одна под другой – это была пропись; сбоку же шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал Яльмар, и они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были стоять.
– Вот как надо держаться! – говорила пропись. – Вот так, с легким наклоном вправо!
– Ах, мы бы и рады, – отвечали буквы Яльмара, – да не можем! Мы такие плохонькие!
– Так вас надо немного подтянуть! – сказал Оле-Лукойе.
– Ой, нет! – закричали они и выпрямились так, что любо было глядеть.
– Ну, теперь нам не до историй! – сказал Оле-Лукойе. – Будем-ка упражняться! Раз-два! Раз-два!
И он довел все буквы Яльмара так, что они стояли уже ровно и бодро, как твоя пропись. Но утром, когда Оле-Лукойе ушел и Яльмар проснулся, они выглядели такими же жалкими, как прежде.
(Кто автор? Это сон пророческий, мутный или поучительный?)
Полезные знания
Научитесь анализировать образы снов в литературе и развивать критическое мышление.
- Понимание литературыУлучшите своё понимание русской литературы через анализ сновидений.
- Анализ литературных приёмовНаучитесь разбираться в использовании снов как художественного инструмента авторами.
- Развитие критического мышленияУлучшите навыки критического анализа и интерпретации литературных текстов.
Ольга Чернорицкая
Преподаватель русской литературы
Преподаватель имеет большой опыт работы с русской литературой и онлайн-обучением. Анализ роли снов в русской литературе, которая менялась с течением времени, однако архетипы оставались.
Регистрируйтесь
Запишитесь на полную лекцию или отдельные уроки. Все ссылки и контакты — под рукой.