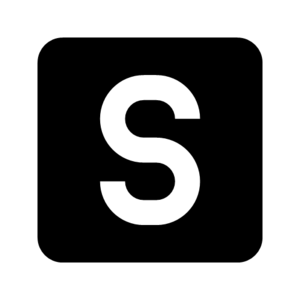Сатира, юмор. Иностранцы в русской литературе
Очерняющая сатира, с времен романтиков, считается наивной. Так Шиллер считает недостойным поэзии всякое изображение, в котором автор, отрицая и отвергая изображаемую им действительность, не исходит из высшего идеала, противостоящего изображаемому. вслед за Шиллером низводит такого кипящего злобой сатирика как Пенкин Обломов: "Изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать! -- почти шипел Обломов. -- Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью".
Пенкин как раз воплощение того сатирика, о котором Шиллер говорил: "Автор осуждает изображаемую действительность только потому, что она расходится с его личными склонностями и потребностями, а не потому, что видит противоречие между идеалом и действительностью".
Только высота идейного уровня делает сатиру истинной. Именно идеал, по мнению Шиллера, сделал великими сатириков Ювенала, Свифта, Руссо, Галлера...
Пенкин как раз воплощение того сатирика, о котором Шиллер говорил: "Автор осуждает изображаемую действительность только потому, что она расходится с его личными склонностями и потребностями, а не потому, что видит противоречие между идеалом и действительностью".
Только высота идейного уровня делает сатиру истинной. Именно идеал, по мнению Шиллера, сделал великими сатириков Ювенала, Свифта, Руссо, Галлера...
Как определить, что это сатира?
Если мнение персонажа о себе и рассказчика о нем не совпадают. Например, персонаж себя или слишком возвеличивает - генералы, или слишком принижает - мужик. А рассказчик не согласен. (в "Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил" Салтыкова-Щедрина) Кроме главного признака существует еще несколько: абсурд, гротеск, аллегория.
Сатирическое изображение - весьма нелицеприятное, особенно если в эпиграмме названа твоя фамилия и предполагается твоя должность:
Какие крохотны коровки!
Есть, право, менее булавочной головки.
Крылов.
Мое собранье насекомых
Открыто для моих знакомых:
Ну, что за пестрая семья!
За ними где ни рылся я!
Зато какая сортировка!
Вот Глинка — божия коровка,
Вот Каченовский — злой паук,
Вот и Свиньин — российский жук,
Вот Олин — черная мурашка,
Вот Раич — мелкая букашка.
Куда их много набралось!
Опрятно за стеклом и в рамах
Они, пронзенные насквозь,
Рядком торчат на эпиграммах.
(А.Пушкин. Собрание насекомых)
По-другому сатира называется лозой Зоила, пошло от Пушкина:
Избранник Феба! твой привет,
Твои хвалы мне драгоценны;
Для муз и дружбы жив поэт.
Его враги ему презренны —
Он музу битвой площадной
Не унижает пред народом;
И поучительной лозой
Зоила хлещет — мимоходом.
Какие крохотны коровки!
Есть, право, менее булавочной головки.
Крылов.
Мое собранье насекомых
Открыто для моих знакомых:
Ну, что за пестрая семья!
За ними где ни рылся я!
Зато какая сортировка!
Вот Глинка — божия коровка,
Вот Каченовский — злой паук,
Вот и Свиньин — российский жук,
Вот Олин — черная мурашка,
Вот Раич — мелкая букашка.
Куда их много набралось!
Опрятно за стеклом и в рамах
Они, пронзенные насквозь,
Рядком торчат на эпиграммах.
(А.Пушкин. Собрание насекомых)
По-другому сатира называется лозой Зоила, пошло от Пушкина:
Избранник Феба! твой привет,
Твои хвалы мне драгоценны;
Для муз и дружбы жив поэт.
Его враги ему презренны —
Он музу битвой площадной
Не унижает пред народом;
И поучительной лозой
Зоила хлещет — мимоходом.
Расчетливость немцев мы видим у Фонвизина, Пушкина, Тургенева. Расчетливость при женитьбе мы видим у Гончарова в образе штолтьца. Тургенев явил нам персонажа Фонка, рассуждающего о браке как о сделке - словно персонаж из сказок братьев Гримм.
Фонк. Да-с. Брак, основанный на взаимной склонности и на рассудке (он значительно выговаривает это слово), есть одно из величайших благ человеческой жизни.
Мошкин (с благоговением выслушивая Фонка). Так-с, так-с.
Фонк. И потому я, с своей стороны, вполне одобряю измерения тех молодых людей, которые с обдуманностью (он поднимает брови) исполняют этот... этот священный долг.
Мошкин (еще с большим благоговением). Да-с, да-с; я совершенно с вами согласен-с.
Фонк. Ибо что может быть приятнее семейной жизни? Но обдуманность при выборе супруги -- необходима.
(И.С. Тургенев. Холостяк)
Мошкин (с благоговением выслушивая Фонка). Так-с, так-с.
Фонк. И потому я, с своей стороны, вполне одобряю измерения тех молодых людей, которые с обдуманностью (он поднимает брови) исполняют этот... этот священный долг.
Мошкин (еще с большим благоговением). Да-с, да-с; я совершенно с вами согласен-с.
Фонк. Ибо что может быть приятнее семейной жизни? Но обдуманность при выборе супруги -- необходима.
(И.С. Тургенев. Холостяк)
Задание 3. Проанализируйте эпизод стояния Наполеона на Поклонной горе из «Войны и мира». Докажите, что чужестранец в России, тем более с Поклонной горы, тем более в зените славы, видится абсурдно. Какова здесь роли иностранных фраз? Как второстепенные персонажи помогают понять суть? Найдите здесь игру типами речи: повествованием, описанием, рассуждением.
«Блеск утра был волшебный. Москва с Поклонной горы расстилалась просторно с своей рекой, своими садами и церквами и, казалось, жила своей жизнью, трепеща, как звезды, своими куполами в лучах солнца.
При виде странного города с невиданными формами необыкновенной архитектуры Наполеон испытывал то несколько завистливое и беспокойное любопытство, которое испытывают люди при виде форм не знающей о них, чуждой жизни. Очевидно, город этот жил всеми силами своей жизни. По тем неопределимым признакам, по которым на дальнем расстоянии безошибочно узнается живое тело от мертвого, Наполеон с Поклонной горы видел трепетание жизни в городе и чувствовал как бы дыхание этого большого и красивого тела…
Ему странно было самому, что, наконец, свершилось его давнишнее, казавшееся ему невозможным желание. В ясном утреннем свете он смотрел то на город, то на план, проверяя подробности этого города, и уверенность обладания волновала и ужасала его.
«Но разве могло быть иначе? — подумал он. — Вот она, эта столица, у моих ног, ожидая судьбы своей. Где теперь Александр и что думает он? Странный, красивый, величественный город! И странная и величественная эта минута! В каком свете представляюсь я им! — думал он о своих войсках. — Вот она, награда для всех этих маловерных, — думал он, оглядываясь на приближенных и на подходившие и строившиеся войска. — Одно мое слово, одно движение моей руки, и погибла эта древняя столица des Czars. Mais ma clémence est toujours prompte à descendre sur les vaincus 3. Я должен быть великодушен и истинно велик. Но нет, это неправда, что я в Москве, — вдруг приходило ему в голову. — Однако вот она лежит у моих ног, играя и дрожа золотыми куполами и крестами в лучах солнца. Но я пощажу ее. На древних памятниках варварства и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия... Александр более всего поймет именно это, я знаю его. (Наполеону казалось, что главное значение того, что совершалось, заключалось в личной борьбе его с Александром.) С высот Кремля, — да, это Кремль, да, — я дам им законы справедливости, я покажу им значение истинной цивилизации, я заставлю поколения бояр с любовью поминать имя своего завоевателя. Я скажу депутации, что я не хотел и не хочу войны; что я вел войну только с ложной политикой их двора, что я люблю и уважаю Александра и что приму условия мира в Москве, достойные меня и моих народов. Я не хочу воспользоваться счастьем войны для унижения уважаемого государя. Бояре — скажу я им: я не хочу войны, а хочу мира и благоденствия всех моих подданных. Впрочем, я знаю, что присутствие их воодушевит меня, и я скажу им, как я всегда говорю: ясно, торжественно и велико. Но неужели это правда, что я в Москве? Да, вот она!»
— Qu'on m'amène les boyards 4, — обратился он к свите. Генерал с блестящей свитой тотчас же поскакал за боярами.
Прошло два часа. Наполеон позавтракал и опять стоял на том же месте на Поклонной горе, ожидая депутацию. Речь его к боярам уже ясно сложилась в его воображении. Речь эта была исполнена достоинства и того величия, которое понимал Наполеон.
Тот тон великодушия, в котором намерен был действовать в Москве Наполеон, увлек его самого. Он в воображении своем назначал дни réunion dans le palais des Czars , где должны были сходиться русские вельможи с вельможами французского императора. Он назначал мысленно губернатора, такого, который бы сумел привлечь к себе население. Узнав о том, что в Москве много богоугодных заведений, он в воображении своем решал, что все эти заведения будут осыпаны его милостями. Он думал, что как в Африке надо было сидеть в бурнусе в мечети, так в Москве надо было быть милостивым, как цари. И, чтобы окончательно тронуть сердца русских, он, как и каждый француз, не могущий себе вообразить ничего чувствительного без упоминания о та chère, ma tendre, ma pauvre mère , он решил, что на всех этих заведениях он велит написать большими буквами: Etablissement dédié à ma chère Mère. Нет, просто: Maison de ma Mère , — решил он сам с собою. «Но неужели я в Москве? Да, вот она передо мной. Но что же так долго не является депутация города?» — думал он.
Между тем в залах свиты императора происходило шепотом взволнованное совещание между его генералами и маршалами. Посланные за депутацией вернулись с известием, что Москва пуста, что все уехали и ушли из нее. Лица совещавшихся были бледны и взволнованны. Не то, что Москва была оставлена жителями (как ни важно казалось это событие), пугало их, но их пугало то, каким образом объявить о том императору, каким образом, не ставя его величество в то страшное, называемое французами ridicule 8, положение, объявить ему, что он напрасно ждал бояр так долго, что есть толпы пьяных, но никого больше. Одни говорили, что надо было во что бы то ни стало собрать хоть какую-нибудь депутацию, другие оспаривали это мнение и утверждали, что надо, осторожно и умно приготовив императора, объявить ему правду.
— Il faudra le lui dire tout de même... — говорили господа свиты. — Mais, messieurs... 9 — положение было тем тяжеле, что император, обдумывая свои планы великодушия, терпеливо ходил взад и вперед перед планом, посматривая изредка из-под руки по дороге в Москву и весело и гордо улыбаясь.
— Mais c'est impossible... — пожимая плечами, говорили господа свиты, не решаясь выговорить подразумеваемое страшное слово: le ridicule...
Между тем император, уставший от тщетного ожидания и своим актерским чутьем чувствуя, что величественная минута, продолжаясь слишком долго, начинает терять свою величественность, подал рукою знак. Раздался одинокий выстрел сигнальной пушки, и войска, с разных сторон обложившие Москву, двинулись в Москву, в Тверскую, Калужскую и Дорогомиловскую заставы. Быстрее и быстрее, перегоняя одни других, беглым шагом и рысью, двигались войска, скрываясь в поднимаемых ими облаках пыли и оглашая воздух сливающимися гулами криков.
Увлеченный движением войск, Наполеон доехал с войсками до Дорогомиловской заставы, но там опять остановился и, слезши с лошади, долго ходил у Камерколлежского вала, ожидая депутации». (Л. Толстой )
Найдите в описании Пфуля Толстым элементы сатиры.
"Пфуль с первого взгляда, в своем русском генеральском дурно сшитом мундире, который нескладно, как на наряженном, сидел на нем, показался князю Андрею как будто знакомым, хотя он никогда не видал его. В нем был и Вейротер, и Мак, и Шмидт, и много других немецких теоретиков-генералов, которых князю Андрею удалось видеть в 1805-м году; но он был типичнее всех их. Такого немца-теоретика, соединявшего в себе все, что было в тех немцах, еще никогда не видал князь Андрей.
Пфуль был невысок ростом, очень худ, но ширококост, грубого, здорового сложения, с широким тазом и костлявыми лопатками. Лицо у него было очень морщинисто, с глубоко вставленными глазами. Волоса его спереди у висков, очевидно, торопливо были приглажены щеткой, сзади наивно торчали кисточками. Он, беспокойно и сердито оглядываясь, вошел в комнату, как будто он всего боялся в большой комнате, куда он вошел. Он, неловким движением придерживая шпагу, обратился к Чернышеву, спрашивая по-немецки, где государь. Ему, видно, как можно скорее хотелось пройти комнаты, окончить поклоны и приветствия и сесть за дело перед картой, где он чувствовал себя на месте. Он поспешно кивал головой на слова Чернышева и иронически улыбался, слушая его слова о том, что государь осматривает укрепления, которые он, сам Пфуль, заложил по своей теории. Он что-то басисто и круто, как говорят самоуверенные немцы, проворчал про себя: Dummkopf... или zu Grunde die ganze Geschichte... или s'wird was gescheites d'raus werden... Князь Андрей не расслышал и хотел пройти, но Чернышев познакомил князя Андрея с Пфулем, заметив, что князь Андрей приехал из Турции, где так счастливо кончена война. Пфуль чуть взглянул не столько на князя Андрея, сколько через него и проговорил смеясь: «Da muss ein schöner taktischer Krieg gewesen sein» . — И, засмеявшись презрительно, прошел в комнату, из которой слышались голоса.
Видно, Пфуль, уже всегда готовый на ироническое раздражение, нынче был особенно возбужден тем, что осмелились без него осматривать его лагерь и судить о нем. Князь Андрей по одному короткому этому свиданию с Пфулем благодаря своим аустерлицким воспоминаниям составил себе ясную характеристику этого человека. Пфуль был один из тех безнадежно, неизменно, до мученичества самоуверенных людей, которыми только бывают немцы, и именно потому, что только немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи — науки, то есть мнимого знания совершенной истины". (Л.Толстой. Война и мир)
Пфуль был невысок ростом, очень худ, но ширококост, грубого, здорового сложения, с широким тазом и костлявыми лопатками. Лицо у него было очень морщинисто, с глубоко вставленными глазами. Волоса его спереди у висков, очевидно, торопливо были приглажены щеткой, сзади наивно торчали кисточками. Он, беспокойно и сердито оглядываясь, вошел в комнату, как будто он всего боялся в большой комнате, куда он вошел. Он, неловким движением придерживая шпагу, обратился к Чернышеву, спрашивая по-немецки, где государь. Ему, видно, как можно скорее хотелось пройти комнаты, окончить поклоны и приветствия и сесть за дело перед картой, где он чувствовал себя на месте. Он поспешно кивал головой на слова Чернышева и иронически улыбался, слушая его слова о том, что государь осматривает укрепления, которые он, сам Пфуль, заложил по своей теории. Он что-то басисто и круто, как говорят самоуверенные немцы, проворчал про себя: Dummkopf... или zu Grunde die ganze Geschichte... или s'wird was gescheites d'raus werden... Князь Андрей не расслышал и хотел пройти, но Чернышев познакомил князя Андрея с Пфулем, заметив, что князь Андрей приехал из Турции, где так счастливо кончена война. Пфуль чуть взглянул не столько на князя Андрея, сколько через него и проговорил смеясь: «Da muss ein schöner taktischer Krieg gewesen sein» . — И, засмеявшись презрительно, прошел в комнату, из которой слышались голоса.
Видно, Пфуль, уже всегда готовый на ироническое раздражение, нынче был особенно возбужден тем, что осмелились без него осматривать его лагерь и судить о нем. Князь Андрей по одному короткому этому свиданию с Пфулем благодаря своим аустерлицким воспоминаниям составил себе ясную характеристику этого человека. Пфуль был один из тех безнадежно, неизменно, до мученичества самоуверенных людей, которыми только бывают немцы, и именно потому, что только немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи — науки, то есть мнимого знания совершенной истины". (Л.Толстой. Война и мир)

Как связан типаж иностранца в России с типом "лишнего человека" у И.Эренбурга?
"Из других стран приезжали специалисты. Они жили здесь, как на полюсе или как в Сахаре. Они удивлялись всему: энтузиазму, вшам и морозам. Жили они отдельно от русских, у них были свои дома, свои столовки и своя вера. Они верили в доллары, в долларах им и платили.
Американцы щеголяли в широкополых шляпах. Они походили на ковбоев с экрана. Им казалось, что это Аляска и что они ищут золото. Они бодро хлопали по плечу русских инженеров и улыбались комсомольцам. По вечерам они заводили патефоны и танцевали друг с другом.
Англичане жили сухо и загадочно. Они ничего не осуждали и ничему не радовались. Они ели утром пшенную кашу с молоком. Вечером они пили водку с нарзаном. Они рассказывали друг другу детские анекдоты и время от времени громко смеялись. Их лица при этом оставались невеселыми, и смех был страшен.
Немцы жили с семьями. Они копили деньги, ругали уборщиц и при любом случае говорили русским, что в их прекрасной Германии нет ни вшей, ни эпизоотии, ни прогулов. Им хотелось добавить, что в их прекрасной Германии нет и революции, но они дорожили хорошим местом и дружно привскакивали, когда оркестр исполнял «Интернационал».
Итальянцы ставили турбины. Они пели романсы и писали на родину длинные письма с орфографическими ошибками и с доподлинной поэзией. По вечерам они волочились за русскими девушками, соблазняя их и пылкостью чувств, и мармеладом, который отпускали в распределителе для иностранных специалистов.
Все иностранцы говорили: постройка такого завода требует не месяцев, но долгих лет. Москва говорила: завод должен быть построен не в годы, но в месяцы. Каждое утро иностранцы удивленно морщились: завод рос".
(И.Эренбург. День второй)
Американцы щеголяли в широкополых шляпах. Они походили на ковбоев с экрана. Им казалось, что это Аляска и что они ищут золото. Они бодро хлопали по плечу русских инженеров и улыбались комсомольцам. По вечерам они заводили патефоны и танцевали друг с другом.
Англичане жили сухо и загадочно. Они ничего не осуждали и ничему не радовались. Они ели утром пшенную кашу с молоком. Вечером они пили водку с нарзаном. Они рассказывали друг другу детские анекдоты и время от времени громко смеялись. Их лица при этом оставались невеселыми, и смех был страшен.
Немцы жили с семьями. Они копили деньги, ругали уборщиц и при любом случае говорили русским, что в их прекрасной Германии нет ни вшей, ни эпизоотии, ни прогулов. Им хотелось добавить, что в их прекрасной Германии нет и революции, но они дорожили хорошим местом и дружно привскакивали, когда оркестр исполнял «Интернационал».
Итальянцы ставили турбины. Они пели романсы и писали на родину длинные письма с орфографическими ошибками и с доподлинной поэзией. По вечерам они волочились за русскими девушками, соблазняя их и пылкостью чувств, и мармеладом, который отпускали в распределителе для иностранных специалистов.
Все иностранцы говорили: постройка такого завода требует не месяцев, но долгих лет. Москва говорила: завод должен быть построен не в годы, но в месяцы. Каждое утро иностранцы удивленно морщились: завод рос".
(И.Эренбург. День второй)
Наша мастерская. Используйте именительный падеж!
Show more