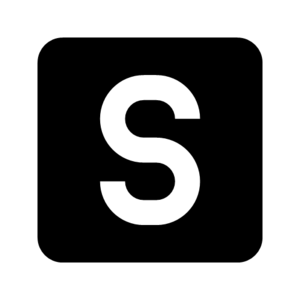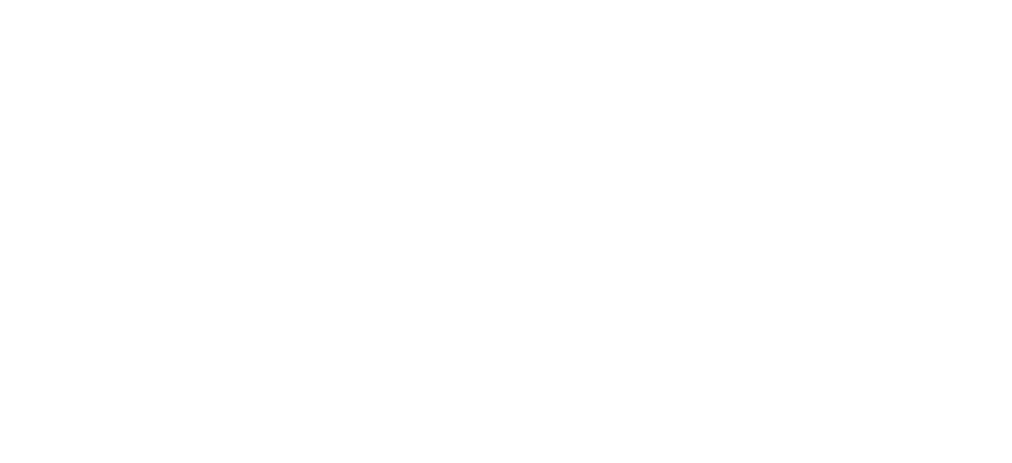Ретроспектива. Ретроспекция
Историческая ретроспектива - это литературный приём, который позволяет авторам исследовать и интерпретировать прошлое через призму настоящего и будущего. Этот метод часто используется для анализа исторических событий, культурных тенденций и социальных изменений, а также для раскрытия глубинных тем и идей в произведениях.
Историческая ретроспектива в текстах писателей
Писатели могут проводить параллели между историческими событиями и современными реалиями, чтобы подчеркнуть повторяемость определённых паттернов или изменений в обществе. Это позволяет читателям увидеть преемственность времён и осознать актуальность исторических уроков.
Одним из знаковых аспектов реализма является ретроспектива – взгляд на прошлое с целью анализа и оценки исторических событий и явлений. Ретроспективные произведения позволяют читателям взглянуть на определенные периоды истории под новым углом, понять их значение и влияние на настоящее время. Они помогают нам лучше понять историю и культуру разных эпох. Но речь пойдет и о ретроспективном методе в самом художественном произведении, когда герой оценивает ситуацию спустя некоторое время, по-иному смотрит на события своей жизни. Такая проекция называется ретроспекцией.
Ретроспекция - это когда автор обращается к прошлому, чтобы лучше понять настоящее или будущее. В художественном произведении ретроспекция появляется в форме воспоминаний, снов, исторических экскурсов или предсказаний. Ретроспекция помогает читателю лучше понять мотивацию персонажей, их характеры и отношения.
Ретроспекция - это когда автор обращается к прошлому, чтобы лучше понять настоящее или будущее. В художественном произведении ретроспекция появляется в форме воспоминаний, снов, исторических экскурсов или предсказаний. Ретроспекция помогает читателю лучше понять мотивацию персонажей, их характеры и отношения.
Ретроспектива:
“Война и мир” Льва Толстого
“Джейн Эйр” Шарлотты Бронте
“Унесенные ветром” Маргарет Митчелл
“1984” Джорджа Оруэлла
“Повелитель мух” Уильяма Голдинга
“Сто лет одиночества” Габриэля Гарсиа Маркеса
“Гроздья гнева” Джона Стейнбека
“На маяк” Вирджинии Вулф
“Прощай, оружие!” Эрнеста Хемингуэя
“По ком звонит колокол” Эрнеста Хемингуэя
"Песня про купца Калашникова" Михаила Лермонтова
"Евгений Онегин", "Арап Петра Великого", "Полтава" А.С.Пушкина
"Князь Серебряный А.Толстого
"Маленький принц" А.Сент-Экзюпери
"Умеешь ли ты свистеть, Йоханна" У.Старка.
"Мастер и Маргарита" Булгакова (главы романа о Понтии Пилате)
“Война и мир” Льва Толстого
“Джейн Эйр” Шарлотты Бронте
“Унесенные ветром” Маргарет Митчелл
“1984” Джорджа Оруэлла
“Повелитель мух” Уильяма Голдинга
“Сто лет одиночества” Габриэля Гарсиа Маркеса
“Гроздья гнева” Джона Стейнбека
“На маяк” Вирджинии Вулф
“Прощай, оружие!” Эрнеста Хемингуэя
“По ком звонит колокол” Эрнеста Хемингуэя
"Песня про купца Калашникова" Михаила Лермонтова
"Евгений Онегин", "Арап Петра Великого", "Полтава" А.С.Пушкина
"Князь Серебряный А.Толстого
"Маленький принц" А.Сент-Экзюпери
"Умеешь ли ты свистеть, Йоханна" У.Старка.
"Мастер и Маргарита" Булгакова (главы романа о Понтии Пилате)
"Ретроспективный" курс для школьников
Структуру изучения ретроспективной тематики историко-литературного курса можно представить в трех этапах.
- Создание образа эпохиОзнакомление с историческими документами, письмами и мемуарами.
На вступительных уроках широко используются исторические документы, письма, дневники и мемуары, фрагменты из журнальных публикаций и литературных произведений., хронологической таблицы, выписки из «словаря эпохи» "Войны и мира", "Унесенных ветром" и т.д. - Литературная жизнь эпохиАнализ основных литературных направлений и тенденций. Подробный обзор литературной жизни изучаемого периода, включающий анализ основных литературных направлений, течений, школ, наиболее характерных тенденций в развитии литературы, которые могли повлиять на оценку персонажами событий.
- Обзор авторов и произведенийПодробное изучение наиболее значимых произведений, в которых авторы обращаются к иным эпохам.
Жмем ссылку ниже, записываемся на уроки и консультации.
Ретроспекция – перспектива наоборот, обратная перспектива. Лирическое отступление в прошлое героя с целью поиска причин событий и основ зарождения личности - второе значение ретроспекции.
«Бедные люди» Достоевского – тетрадь Вареньки о прошлых событиях, о смерти отца и матери.
Фаулз "Коллекционер"- рассказ начинается с событий давнего прошлого с учетом настоящего положения дел - девушка на свободе описывается в то время, когда она сидит у героя в плену.
«Бородино» М.Ю.Лермонтова – рассказ «дяди» о давних событиях – Бородинском сражении.
«Старуха Изергиль» Горького – о старых временах, о молодости старухи.
«Преступление и наказание» Достоевского – рассказ Мармеладова о событиях, произошедших ранее в его семье.
«Гарри Поттер» Дж. Роулинг – Рассказ о давних событиях, когда мать и отец Гарри были живы.
«Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова – ретроспективная спираль.
«Отцы и дети» Тургенева – рассказ Аркадия о Павле Петровиче и его пылкой влюбленности в графиню.
«Мертвые души» Гоголя – детство Чичикова.
«Ворон» Э.По – воспоминание о Леноре, ее блеске.
«Алые паруса» Грина – рассказ о детстве Грея.
Гончаров «Обломов» - сон Обломова
М. Пруст «В поисках утраченного времени»
«Гамлет» У.Шекспира - обстоятельства смерти отца Гамлету рассказывает тень отца.
Письмо Обломова Ольге - рассказ о недавних событиях, романтических свиданиях с целью анализа- представления их в абсурдном свете.
Роман о Понтии Пилате в "Мастере и Маргарите" - переосмысление прошлого, поиск в нем событий нынешних.
«Бедные люди» Достоевского – тетрадь Вареньки о прошлых событиях, о смерти отца и матери.
Фаулз "Коллекционер"- рассказ начинается с событий давнего прошлого с учетом настоящего положения дел - девушка на свободе описывается в то время, когда она сидит у героя в плену.
«Бородино» М.Ю.Лермонтова – рассказ «дяди» о давних событиях – Бородинском сражении.
«Старуха Изергиль» Горького – о старых временах, о молодости старухи.
«Преступление и наказание» Достоевского – рассказ Мармеладова о событиях, произошедших ранее в его семье.
«Гарри Поттер» Дж. Роулинг – Рассказ о давних событиях, когда мать и отец Гарри были живы.
«Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова – ретроспективная спираль.
«Отцы и дети» Тургенева – рассказ Аркадия о Павле Петровиче и его пылкой влюбленности в графиню.
«Мертвые души» Гоголя – детство Чичикова.
«Ворон» Э.По – воспоминание о Леноре, ее блеске.
«Алые паруса» Грина – рассказ о детстве Грея.
Гончаров «Обломов» - сон Обломова
М. Пруст «В поисках утраченного времени»
«Гамлет» У.Шекспира - обстоятельства смерти отца Гамлету рассказывает тень отца.
Письмо Обломова Ольге - рассказ о недавних событиях, романтических свиданиях с целью анализа- представления их в абсурдном свете.
Роман о Понтии Пилате в "Мастере и Маргарите" - переосмысление прошлого, поиск в нем событий нынешних.
Ретроспекция
Ретроспекция является основой саморефлексии, ведь прежде всего это «припоминание и анализ лично наблюдавшихся событий, собственных действий и переживаний, рассказ о них», это самонаблюдение, попытка понять себя прошлого, себя-ребенка или подростка. Это интроспекция, переходящая в ретроспекцию. Но важно и наблюдение за людьми, миром, и тогда это особый метод наблюдения (с фиксацией фактов по памяти), мысленное выстраивание в определённый временной ряд прошедших событий жизни.
Ретроспекция может быть прямой (обращение к прошлому непосредственно в ходе повествования) или косвенной (прошлое упоминается в настоящем через воспоминания, документы, сны и т.д.). Также ретроспекция может быть линейной (события прошлого описываются в хронологическом порядке) или нелинейной (события прошлого перемешиваются, и их порядок может быть не всегда ясен).
Ретроспекция может быть прямой (обращение к прошлому непосредственно в ходе повествования) или косвенной (прошлое упоминается в настоящем через воспоминания, документы, сны и т.д.). Также ретроспекция может быть линейной (события прошлого описываются в хронологическом порядке) или нелинейной (события прошлого перемешиваются, и их порядок может быть не всегда ясен).
Обычное поведение как ретроспекция в момент конфликта, ретроспекция-упрек.
Катерина (подходит к мужу и прижимается к нему). Тиша, голубчик, кабы ты остался либо взял ты меня с собой, как бы я тебя любила, как бы я тебя голубила, моего милого! (Ласкает его.)
Кабанов. Не разберу я тебя, Катя! То от тебя слова не добьешься, не то что ласки, а то так сама лезешь.
Катерина. Тиша, на кого ты меня оставляешь! Быть беде без тебя! Быть беде!
(Островский. Гроза)
Кабанов. Не разберу я тебя, Катя! То от тебя слова не добьешься, не то что ласки, а то так сама лезешь.
Катерина. Тиша, на кого ты меня оставляешь! Быть беде без тебя! Быть беде!
(Островский. Гроза)
Экспозиция-ретроспекция. Мотивация прошлым решений и поступков нарратора. Нарратор поясняет прошлым свое нынешнее восприятие мира - и соответственно, взгляд на ситуацию, о которой поведет повествование.
"В юношеские годы, когда человек особенно восприимчив, я как-то получил
от отца совет, надолго запавший мне в память.
- Если тебе вдруг захочется осудить кого то, - сказал он, - вспомни, что не все люди на свете обладают теми преимуществами, которыми обладал ты.
К этому он ничего не добавил, но мы с ним всегда прекрасно понимали друг друга без лишних слов, и мне было ясно, что думал он гораздо больше,
чем сказал. Вот откуда взялась у меня привычка к сдержанности в суждениях - привычка, которая часто служила мне ключом к самым сложным натурам и еще чаще делала меня жертвой матерых надоед".
(Ф.Фицжеральд. Великий Гэтбси)- Как ретроспекция помогает понять мотивацию персонажей?
- Приведите примеры ретроспективных произведений в литературе.
- Что такое временная дистанция в ретроспекции?
- Как использование ретроспекции может влиять на восприятие читателя?
- Какие основные функции выполняет ретроспекция в литературном произведении?
- Приведите пример использования ретроспекции в кинематографе.
- В чем разница между ретроспекцией и флешбеком?
- Как вы понимаете термин “ретроспективное повествование”?
Литературная ретроспектива: от «Никиты» Платонова к современным тревогам
Рассказ А. Платонова «Никита» (1945), где пятилетний мальчик, оставшись один дома, населяет мир фантастическими образами (от «доброго солнца-дедушки» до «злого пня»), в советскую эпоху трактовался как главенство детского воображения над одиночеством. Критики видели в нём гимн творческой фантазии, способной преодолеть тяготы войны. А в тех образах, которые видел Никита - сатиру на мировых лежебок. Лежебока - пустая бочка, а в ней некий Диоген, который думал: "Поэтому Никита пошел далее во двор и пришел в сарай, где стояла в темноте пустая бочка. В ней, наверно, кто-нибудь жил, какой-нибудь маленький человек; днем он спал, а ночью выходил наружу и ел хлеб, пил воду и думал что-нибудь, а наутро опять прятался в бочку и спал".
Платонов видел тут свою личную борьбу с фантастами, которые рисуют в своих книгах злые образы потому, что это не образы, созданные руками трудового народа, и выполнял рассказом соцзаказ на пролетарское изображение действительности.
Однако современные читательницы, воспитанные в парадигме гиперопеки, видят в этом тексте только кошмар «плохой матери»:
Заключение: от утопии доверия к антиутопии контроля
Эволюция от проекта «Город-сказка» через рассказ «Никита» к антиутопии «Рассказ служанки» демонстрирует трансформацию материнства:
Таким образом, литература и урбанистические проекты становятся лакмусовой бумагой социальных изменений, где каждая эпоха пишет свои утопии и антиутопии заботы. А фантасты так и остались фантастами - пролетарская литература, увы, их не изменила.
Рассказ А. Платонова «Никита» (1945), где пятилетний мальчик, оставшись один дома, населяет мир фантастическими образами (от «доброго солнца-дедушки» до «злого пня»), в советскую эпоху трактовался как главенство детского воображения над одиночеством. Критики видели в нём гимн творческой фантазии, способной преодолеть тяготы войны. А в тех образах, которые видел Никита - сатиру на мировых лежебок. Лежебока - пустая бочка, а в ней некий Диоген, который думал: "Поэтому Никита пошел далее во двор и пришел в сарай, где стояла в темноте пустая бочка. В ней, наверно, кто-нибудь жил, какой-нибудь маленький человек; днем он спал, а ночью выходил наружу и ел хлеб, пил воду и думал что-нибудь, а наутро опять прятался в бочку и спал".
Платонов видел тут свою личную борьбу с фантастами, которые рисуют в своих книгах злые образы потому, что это не образы, созданные руками трудового народа, и выполнял рассказом соцзаказ на пролетарское изображение действительности.
Однако современные читательницы, воспитанные в парадигме гиперопеки, видят в этом тексте только кошмар «плохой матери»:
- Страх одиночества: как могла мать оставить ребёнка одного в пустом доме? "Рано утром мать уходила со двора в поле на работу. А отца в семействе не было; отец давно ушел на главную работу — на войну, и не вернулся оттуда. Каждый день мать ожидала, что отец вернется, а его все не было и нет". - отец тоже бы ушел на работу.
- Ужас перед рисками: фантазии Никиты интерпретируются не как игра, а как симптом травмы из-за отсутствия присмотра.
- Тогда (1940-е): автономия ребёнка считалась естественной, а воображение — ресурсом адаптации;
- Сейчас: одиночество ребёнка трактуется как угроза, требующая постоянного родительского присутствия.
Заключение: от утопии доверия к антиутопии контроля
Эволюция от проекта «Город-сказка» через рассказ «Никита» к антиутопии «Рассказ служанки» демонстрирует трансформацию материнства:
- СССР:
- Коллективная ответственность (государство + семья).
- Автономия ребёнка как норма (Никита, «Город-сказка»).
- Воображение — инструмент выживания в условиях дефицита.
- Современность:
- Индивидуализация рисков (мать как «менеджер угроз»).
- Гиперопека как социальный императив.
- Литературные герои вроде Никиты переосмысляются через призму тревоги.
- Антиутопия («Рассказ служанки»):
- Тотальный контроль над материнством.
- Ребёнок — объект политики, мать — лишённая прав «служанка».
Таким образом, литература и урбанистические проекты становятся лакмусовой бумагой социальных изменений, где каждая эпоха пишет свои утопии и антиутопии заботы. А фантасты так и остались фантастами - пролетарская литература, увы, их не изменила.
А.Платонов "Никита" в ретроспективе
Поясните художественную задачу автора - зачем было начинать эту историю через воспоминания Фердинанда? Как это влияет на восприятие произведения? Можно ли назвать это "ретроспективным повествованием"?
"Она и не обернулась ни разу, а я долго смотрел на ее затылок, на волосы, заплетенные в длинную косу, очень светлые, шелковистые, словно кокон тутового шелкопряда. И собраны в одну косу, длинную, до пояса. То она ее на грудь перекидывала, то снова на спину. А то вокруг головы укладывала. И пока она не стала гостьей здесь, в моем доме, мне только раз посчастливилось увидеть эти волосы свободно рассыпавшимися по плечам. У меня прямо горло перехватило, так это было красиво. Ну точно русалка".
"В грезах этих она рисовала картины, а я занимался своей коллекцией. Представлял себе, как она меня любит, как ей коллекция моя нравится, как она рисует и раскрашивает свои картины. Как мы с ней вместе работаем в красивом современном доме, в большущей комнате с таким огромным окном из цельного стекла, и вроде собрания секции жесткокрылых в этой комнате проходят. И я не молчу, как обычно, чтоб ненароком не сморозить чего, и мы с ней – хозяин и хозяйка, и все к нам с уважением. И она такая красивая – светлые волосы, серые глаза, – что от зависти все мужики зеленеют, прямо на глазах".
(Фаулз Дж. Коллекционер)
Записаться на консультацию можно здесь:
"В грезах этих она рисовала картины, а я занимался своей коллекцией. Представлял себе, как она меня любит, как ей коллекция моя нравится, как она рисует и раскрашивает свои картины. Как мы с ней вместе работаем в красивом современном доме, в большущей комнате с таким огромным окном из цельного стекла, и вроде собрания секции жесткокрылых в этой комнате проходят. И я не молчу, как обычно, чтоб ненароком не сморозить чего, и мы с ней – хозяин и хозяйка, и все к нам с уважением. И она такая красивая – светлые волосы, серые глаза, – что от зависти все мужики зеленеют, прямо на глазах".
(Фаулз Дж. Коллекционер)
Записаться на консультацию можно здесь:

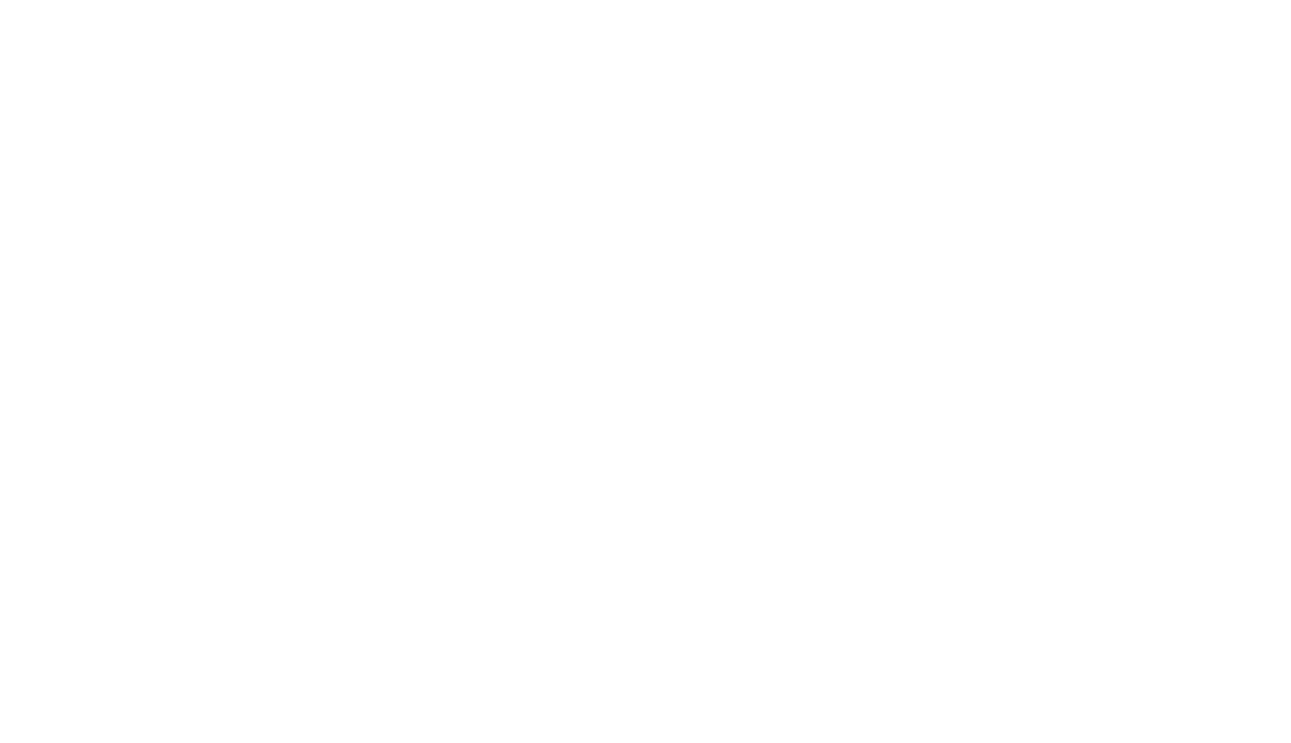
Ретроспекция представляет собой сложный нарративный механизм, позволяющий автору осуществлять временную децентрацию линейного повествования. В реалистической прозе данный прием выполняет несколько важных функций: организацию многоуровневой системы временных планов, создание психологического портрета персонажа, реализацию идеологической позиции автора, формирование причинно-следственных связей между эпизодами.
В реалистической прозе можно выделить следующие основные типы ретроспекций:
а) Автобиографическая ретроспекция представлена в форме воспоминаний главного героя
часто используется в “потоке сознания” служит инструментом психологического анализа
Пример: Л.Н. Толстой, “Война и мир” (воспоминания князя Андрея о прошлом).
б) Историческая ретроспекция - обращение к предшествующим историческим событиям,
создание исторического контекста, формирование причинно-следственных связей.
Пример: И.С. Тургенев, “Отцы и дети” (история любви Павла Петровича)
В реалистической прозе ретроспекция выполняет следующие функции:
а) Идеологическая (формирование авторской концепции истории, выражение философской позиции, создание исторического комментария)
б) Психологическая (раскрытие внутреннего мира персонажа, демонстрация эволюции характера, анализ мотивации поступков)
в) Композиционная (создание нелинейной структуры повествования, формирование многоуровневого хронотопа,
создание художественных параллелей).
Специфика русской литературы заключается в синтезе различных типов ретроспекции, создании многоуровневых временных пластов, психологизации исторического процесса, философском осмыслении исторического опыта. Так, лироэпос Маяковского характеризуется уникальной организацией художественного времени, представляющей собой сложную систему временных пластов. В творчестве поэта формируется особая модель полифонического взаимодействия различных временных измерений.
Ретроспекция выступает как ключевой механизм организации реалистического дискурса, позволяющий: создавать многомерную картину действительности, реализовывать принципы психологизма, формировать историческую перспективу, осуществлять философское осмысление реальности.
Данный нарративный прием становится своеобразным инструментом познания действительности, позволяющим раскрыть как индивидуальные судьбы, так и исторические закономерности развития общества.
В реалистической прозе можно выделить следующие основные типы ретроспекций:
а) Автобиографическая ретроспекция представлена в форме воспоминаний главного героя
часто используется в “потоке сознания” служит инструментом психологического анализа
Пример: Л.Н. Толстой, “Война и мир” (воспоминания князя Андрея о прошлом).
б) Историческая ретроспекция - обращение к предшествующим историческим событиям,
создание исторического контекста, формирование причинно-следственных связей.
- Особое место в развитии ретроспективного метода в русской литературе занимает поэма Пушкина “Медный всадник”. Здесь можно выделить несколько уровней ретроспекции: вступление поэмы создает образ Петра I, стоящего “на берегу пустынных волн”, введением образа Евгения создается временной разрыв между прошлым и настоящим, осуществляется оценка исторических событий с позиции тогдашней современности - дается отсылка к легендам о Петре, по одной из которых он спас во время шторма моряков, о чем в принципе не может знать маленький человек Евгений, поскольку он "не тужит ни о почиющей родне, ни о забытой старине".
Пример: И.С. Тургенев, “Отцы и дети” (история любви Павла Петровича)
В реалистической прозе ретроспекция выполняет следующие функции:
а) Идеологическая (формирование авторской концепции истории, выражение философской позиции, создание исторического комментария)
б) Психологическая (раскрытие внутреннего мира персонажа, демонстрация эволюции характера, анализ мотивации поступков)
в) Композиционная (создание нелинейной структуры повествования, формирование многоуровневого хронотопа,
создание художественных параллелей).
Специфика русской литературы заключается в синтезе различных типов ретроспекции, создании многоуровневых временных пластов, психологизации исторического процесса, философском осмыслении исторического опыта. Так, лироэпос Маяковского характеризуется уникальной организацией художественного времени, представляющей собой сложную систему временных пластов. В творчестве поэта формируется особая модель полифонического взаимодействия различных временных измерений.
Ретроспекция выступает как ключевой механизм организации реалистического дискурса, позволяющий: создавать многомерную картину действительности, реализовывать принципы психологизма, формировать историческую перспективу, осуществлять философское осмысление реальности.
Данный нарративный прием становится своеобразным инструментом познания действительности, позволяющим раскрыть как индивидуальные судьбы, так и исторические закономерности развития общества.