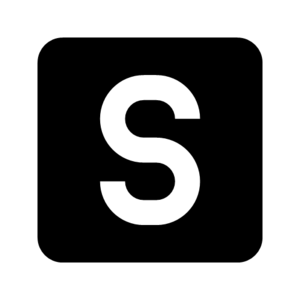Натюрморт у Гоголя, Гумилева, Есенина и Бродского
Натюрморт – изображение вещей, чего-либо неживого - «мертвой природы».
Натюрморт – это жанр искусства, который привлекает внимание своей простотой и глубиной и вводит в бытовое поле происходящего. Он позволяет художнику выразить свои чувства и эмоции через предметы, окружающие нас в повседневной жизни. В художественной литературе натюрморт не жанр, а прием, он играет важную роль, поскольку помогает автору создать атмосферу, настроение и передать свое видение мира.
Изображая предмет, писатель часто оживляет его, придает ему душу - это дань древней мифологии, когда человек видел весь мир живым, создавал культ вещей. Не исключение и нынешние люди: некоторые вещи они наполняют особым смыслом, видят в них душу, разговаривают с ними.
«Перед ним стоял флакон с духами Пелисье. Золотисто-коричневая жидкость, мерцавшая в
солнечном свете, была прозрачной, без малейшей мути. Она выглядела совершенно невинно, как светлый чай, — и все же кроме четырех пятых частей спирта она содержала одну пятую часть таинственной смеси, которая могла привести в возбуждение целый город. Эта смесь в свою очередь состояла, вероятно, из трех или тридцати различных веществ, находившихся в некоем вполне определенном (из бесконечного числа возможных) объемном соотношении друг с другом. Это была душа духов — если, говоря о духах этого холодного как лед предпринимателя Пелисье, уместно упоминать о душе, — и ее строение нужно было сейчас выяснить». (П. Зюскинд)
Зюскинд раскрывает идею о том, что в материальных объектах может быть заключена глубинная, почти живая сущность, определяющая их силу и воздействие на человека. Эта «душа» создана талантливым парфюмером и состоит из определённого сочетания веществ, которое способно оказывать мощное воздействие на людей — в данном случае возбуждать целый город – орудие, которое в умелых руках может сделать парфюмера всесильным. Фраза «если, говоря о духах этого холодного как лёд предпринимателя Пелисье, уместно упоминать о душе» содержит оттенок иронии. Зюскинд как бы ставит под вопрос саму возможность применения такого антропоморфного понятия к неодушевлённому предмету как предприниматель. Вещь – одушевлена. Предприниматель – овеществлен.
В некоторых произведениях вещи представлены как люди. Такая персонификация – игра с образами знакомой читателю исторической реальности. Так М. Осоргин делит вещи по принципу социального расслоения современного ему общества: мещане, эксплуататоры, трудящиеся, паразиты-баре, пьяницы, актеры. Разумеется, это сатирический прием – показывать натюрморт через общество людей.
«Что вещи живут своей особой жизнью — кто же сомневается? Часы шагают, хворают, кашляют, печка мыслит, запечатанное письмо подмигивает и рисуется, раздвинутые ножницы кричат, кресло сидит, с точностью копируя старого толстого дядю, книги дышат, ораторствуют, перекликаются на полках. Шляпа, висящая на гвозде, непременно передразнивает своего владельца,— но лицо у нее свое, забулдыжно-актерское. У висящего пальто всегда жалкая душонка и легкая нетрезвость. Что-то паразитическое чувствуется в кольце и особенно в серьгах,— и к ним с заметным презрением относятся вещи-труженики: демократический стакан, реакционная стеариновая свечка, интеллигент-термометр, неудачник из мещан — носовой платок, вечно юная и суетливая сплетница — почтовая марка. Отрицать, что чайник, этот добродушный комик,— живое существо, может только совершенно нечуткий человек; именно чайник, так как кофейник, например, живет жизнью менее индивидуальной и заметной» (М.Осоргин «Пенсне»).
Может ли стать портретная деталь – вещью? Пейзаж – вещью? Конечно, если это «Нос» Гоголя. Был нос у майора Ковалева – оказался в хлебе у цирюльника Ивана Яковлевича. Конечно, «гроба с размытого кладбища» - были внутри пейзажа, стали натюрмортом. Такое сочетание современные литературоведы называют синергией. Слово взято из богословия, означает совместную работу Бога и человека по обустройству мира. В более узком значении – соединение различных средств художественной изобразительности для создания единого образа. В широком значении – единение поэта с природой и Богом, как в стихотворении М. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Там полная гармония пустыни, которая внемлет богу, звезда со звездой, кремнистый путь и путь поэта, боль о Вселенной – и нет натюрморта там, где все живое, ты сам лишь часть пейзажа даже в своем вечном сне. Ничто не мертво.
И «Русский огонек» Рубцова – бескрайнее снежное мертвое поле соответствует его душе – и опять божественный промысел – огонек, который соответствует просвету в его судьбе. Люди такие, что нельзя здесь погибнуть даже в кромешной мгле. Они всегда кого-то ждут.
Какая глушь! Я был один живой
Один живой в бескрайнем мёртвом поле!
Вдруг тихий свет — пригрезившийся, что ли? —
Мелькнул в пустыне, как сторожевой.
И опять нет натюрморта, фотографии внутри избы, куда пришел путник – и они как живые, с особым смыслом пребывания здесь поэта, ожидания, незапертых дверей.
У Николая Гумилева для описания натюрморта – часов с остановившимся маятником используется сравнение – элемент пейзажа- луна:
Но вечером... О, как она страшна,
Ночная тень за шкафом, за киотом,
И маятник, недвижный, как луна,
Что светит над мерцающим болотом!
Синергия – божественное в обыденном, житийственном, элемент спасения. Элемент спасения – песни матери, пушкинский дуб у Лукоморья – покой.
Задание 1. Прочитайте стихотворение С.Есенина «Ус». Определите момент перехода портретной детали в натюрморт. Докажите, что эта баллада несет в себе элементы бунтарства и одновременно обреченности.
Не белы снега по-над Доном
Заметали степь синим звоном.
Под крутой горой, что ль под тыном,
Расставалась мать с верным сыном.
«Ты прощай, мой сын, прощай, чадо,
Знать, пришла пора, ехать надо!
Захирел наш дол по-над Доном,
Под пятой Москвы, под полоном».
То не водный звон за путиной —
Бьет копытом конь под осиной.
Под красневу дремь, под сугредок
Отвечал ей сын напоследок:
«Ты не стой, не плачь на дорогу,
Зажигай свечу, молись богу.
Соберу я Дон, вскручу вихорь,
Полоню царя, сниму лихо».
Не река в бугор била пеной —
Вынимал он нож с подколена,
Отрезал с губы ус чернявый,
Говорил слова над дубравой:
«Уж ты, мать моя, голубица,
Сбереги ты ус на божнице;
Окропи его красным звоном,
Положи его под икону!»
Гикал-ухал он под туманом,
Подымалась пыль за курганом.
А она в ответ, как не рада:
«Уж ты сын ли мой, мое чадо!»
*
На крутой горе, под Калугой,
Повенчался Ус с синей вьюгой.
Лежит он на снегу под елью,
С весела-разгула, с похмелья.
Перед ним все знать да бояры,
В руках золотые чары.
«Не гнушайся ты, Ус, не злобуй,
Подымись, хоть пригубь, попробуй!
Нацедили мы вин красносоких
Из грудей из твоих из высоких.
Как пьяна с них твоя супруга,
Белокосая девица-вьюга!»
Молчит Ус, не кинет взгляда, —
Ничего ему от земли не надо.
О другой он земле гадает,
О других небесах вздыхает…
*
Заждалася сына дряхлая вдовица,
День и ночь горюя, сидя под божницей.
Вот прошло-проплыло уж второе лето,
Снова снег на поле, а его все нету.
Подошла, взглянула в мутное окошко…
«Не одна ты в поле катишься, дорожка!»
Свищет сокол-ветер, бредит тихим Доном.
«Хорошо б прижаться к золотым иконам…»
Села и прижалась, смотрит кротко-кротко…
«На кого ж похож ты, светлоглазый отрок?..
А! — сверкнули слезы над увядшим усом. —
Это ты, о сын мой, смотришь Иисусом!»
Радостью светит она из угла.
Песню запела и гребень взяла.
Лик ее старческий ласков и строг.
Встанет, присядет за печь, на порог.
Вечер морозный, как волк, темно-бур…
Кличет цыплят и нахохленных кур:
«Цыпушки-цыпы, свет-петушок!..»
Крепок в руке роговой гребешок.
Стала, уставилась лбом в темноту,
Чешет волосья младенцу Христу.
Несомненно, синергия здесь в прямом и переносном значении. – сын для матери обретает божественную сущность, для Есенина таковой является сущность бунтаря. Ус, обрезанный ножом, обрел предметную сущность и стал фетишем. Соединил воспоминания о себе с божьим ликом. И момент перехода между жизнью и смертью – сугубо лермонтовский. Это не совсем смерть, но уже и не жизнь.
Иосиф Бродский читает стих Сергея Есенина о разбойнике, отрезавшем свой ус и сунувшим его за икону, и пишет заголовок своего отрывка: "Натюрморт". Можно, конечно, дать ссылку, но Гоголь же не давал, когда вырисовывал в своем "Ревизоре" "Страшный суд" Микеланджело. Значит, рано или поздно догадаются, что читал, на что смотрел, когда рассуждал о мертвой и живой природе. Как эти две природы в ноосфере, однако, переплелись. Икона, ус - портрет это или натюрморт, что бы более подходило для определения? «Портретонатюрморт»? Синергия.
Метафоры мать-Богородица, сын - Христос. Странные сближения. Уж не нарочно ли? Зачем Бродский закинул эту отсылку в конец рассуждения о людях и вещах? Натюрморте? Что там было у Есенина? Ус. Он предмет или тело, если отрезан? Распятие, икона - это вещь? Этот предметный, опредмеченный "бог земного круга" по мысли Пушкина, еще раньше перешедший от предметности и вещности к рождению бога. Не того, который жил... но который умер и выжил. Вещь на высшей стадии всех и всяческих эволюций когда она через свое бессмертие соединяет мир ушедших с миром печалящихся о них.
Гикал-ухал он под туманом,
Подымалась пыль за курганом.
А она в ответ, как не рада:
"Уж ты сын ли мой, мое чадо!" (Сергей Есенин)
Мать говорит Христу:
- Ты мой сын или мой
Бог? Ты прибит к кресту.
Как я пойду домой? (Иосиф Бродский)
Села и прижалась, смотрит кротко-кротко...
"На кого ж похож ты, светлоглазый отрок?..
А! - сверкнули слезы над увядшим усом. -
Это ты, о сын мой, смотришь Иисусом!"
(Сергей Есенин)
И все-таки портрет. Он же - очевидная кличка бунтовщика. Имя, вещь, бытие. Мать перед портретом сына или бога? У всех матерей в младенце-Христе есть что-то родное. Отсюда литературные реминисценции.
И эта особенная часть в монтажной композиции "Натюрморта": "Мать говорит Христу...". Разве не все равно, распятие - это портрет или натюрморт? "Разницы, диво, нет". Мир вещей соединяет с миром людей простой предмет, на котором не ясно, умер или жив Христос. Он мертвое тело или живая душа?
Задание 2. Прочитайте стихотворение Бродского «Натюрморт». Найдите в нем предметные детали и поясните, к чему они относятся: времени, пространству, быту, интерьеру, пейзажу, психологии? Найдите метафизические и поэтические переклички у Бродского с Есениным.
Задание 3. Прочитайте отрывок из поэмы «Мертвые души» Гоголя. Поясните, как интерьер бала может превратиться в натюрморт – кусок сахара. Зачем он так делает? Как это описание связано с заглавием «Мертвые души»?
«Вошедши в зал, Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшный. Всё было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая клюшница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостию старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь и опять прилететь с новыми докучными эскадронами».
Вы хотите произвести впечатление – появиться на балу в фраке, - а вы всего лишь муха на сахаре соблазнов.
Переделайте текст-описание в текст-повествование, затем в текст-рассуждение.
Задание 4. Прочитайте стихотворение «Пророк» Пушкина. Подумайте, в каком значении к этому стихотворению может быть употреблено слово «синергия»? Где происходит соединение божественного с человеческим? Какие части портрета (тела человека) Пушкин изобразил как вещи?
Пророк
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
Задание 5. Сочините свой «отрывок» используя соединение различных деталей (синергию).
Сравните «Пророк» Пушкина с «Пророком» Лермонтова по вопросам:
● История создания.
● К каким литературным направлениям и жанрам вы бы их отнесли?
● Понравились или не понравилось прочитанные произведения современникам, вам?
● Сюжет. Центральная фигура. Где и когда происходят изображенные события?
● Какая тема их объединяет? В чем разница звучания этой темы?
● Есть ли перекличка в сюжете, мотивах?
● Какие места в каждом произвели на тебя наиболее сильное впечатление?
● Каков язык произведений?
● Каков эмоциональный ореол?
● Символика цвета.
● Как в произведениях реализуются оппозиции верх-низ, запад-восток?
● Над какими вопросами произведения заставили задуматься?
● Какова основная мысль произведений?
● Кому ты советуешь прочитать эти произведения и почему?
Подсказка. Чтобы написать о языке произведений, сделайте лингвистическое упражнение из олимпиадных заданий: прокомментируйте пары слов, с полногласием и неполногласием. Что общего в каждой паре?
Набережная - безбрежная, сберегательный - пренебречь, наволочка - навлекать, облако - оболочка; воротник - возвратить, ворота -вратарь, заголовок - заглавие, главный, глава, голова; голосистый - возглас; загородный - заградительный, перегородить - преградить; деревянный - древесный; дорожить - драгоценный; жеребьёвка - жребий; заполнить - пленный; здоровый - здравница; золотой - златоглавая; укоротить - краткий; молодость - младенец, молочный - Млечный путь; обморочный - мрачный; оборона - бранить; наоборот - обратить; ошеломить - шлем; полотно - платок; порожний - праздный; привередливый - вредный; середина - средний; смородина - смрадный; солод - сладкий; сторожить - стража; теребить - требовать; холодный - прохладный; хоромы - храм; похороны - хранение; чередование - учреждение, через - чрезмерный.
Старославянизмы- с их неполногласием есть и в стихотворении Пушкина «Пророк». Найдите их. Зачем Пушкин их использует? Этот ли прием у Лермонтова?
Натюрморт – это жанр искусства, который привлекает внимание своей простотой и глубиной и вводит в бытовое поле происходящего. Он позволяет художнику выразить свои чувства и эмоции через предметы, окружающие нас в повседневной жизни. В художественной литературе натюрморт не жанр, а прием, он играет важную роль, поскольку помогает автору создать атмосферу, настроение и передать свое видение мира.
Изображая предмет, писатель часто оживляет его, придает ему душу - это дань древней мифологии, когда человек видел весь мир живым, создавал культ вещей. Не исключение и нынешние люди: некоторые вещи они наполняют особым смыслом, видят в них душу, разговаривают с ними.
«Перед ним стоял флакон с духами Пелисье. Золотисто-коричневая жидкость, мерцавшая в
солнечном свете, была прозрачной, без малейшей мути. Она выглядела совершенно невинно, как светлый чай, — и все же кроме четырех пятых частей спирта она содержала одну пятую часть таинственной смеси, которая могла привести в возбуждение целый город. Эта смесь в свою очередь состояла, вероятно, из трех или тридцати различных веществ, находившихся в некоем вполне определенном (из бесконечного числа возможных) объемном соотношении друг с другом. Это была душа духов — если, говоря о духах этого холодного как лед предпринимателя Пелисье, уместно упоминать о душе, — и ее строение нужно было сейчас выяснить». (П. Зюскинд)
Зюскинд раскрывает идею о том, что в материальных объектах может быть заключена глубинная, почти живая сущность, определяющая их силу и воздействие на человека. Эта «душа» создана талантливым парфюмером и состоит из определённого сочетания веществ, которое способно оказывать мощное воздействие на людей — в данном случае возбуждать целый город – орудие, которое в умелых руках может сделать парфюмера всесильным. Фраза «если, говоря о духах этого холодного как лёд предпринимателя Пелисье, уместно упоминать о душе» содержит оттенок иронии. Зюскинд как бы ставит под вопрос саму возможность применения такого антропоморфного понятия к неодушевлённому предмету как предприниматель. Вещь – одушевлена. Предприниматель – овеществлен.
В некоторых произведениях вещи представлены как люди. Такая персонификация – игра с образами знакомой читателю исторической реальности. Так М. Осоргин делит вещи по принципу социального расслоения современного ему общества: мещане, эксплуататоры, трудящиеся, паразиты-баре, пьяницы, актеры. Разумеется, это сатирический прием – показывать натюрморт через общество людей.
«Что вещи живут своей особой жизнью — кто же сомневается? Часы шагают, хворают, кашляют, печка мыслит, запечатанное письмо подмигивает и рисуется, раздвинутые ножницы кричат, кресло сидит, с точностью копируя старого толстого дядю, книги дышат, ораторствуют, перекликаются на полках. Шляпа, висящая на гвозде, непременно передразнивает своего владельца,— но лицо у нее свое, забулдыжно-актерское. У висящего пальто всегда жалкая душонка и легкая нетрезвость. Что-то паразитическое чувствуется в кольце и особенно в серьгах,— и к ним с заметным презрением относятся вещи-труженики: демократический стакан, реакционная стеариновая свечка, интеллигент-термометр, неудачник из мещан — носовой платок, вечно юная и суетливая сплетница — почтовая марка. Отрицать, что чайник, этот добродушный комик,— живое существо, может только совершенно нечуткий человек; именно чайник, так как кофейник, например, живет жизнью менее индивидуальной и заметной» (М.Осоргин «Пенсне»).
Может ли стать портретная деталь – вещью? Пейзаж – вещью? Конечно, если это «Нос» Гоголя. Был нос у майора Ковалева – оказался в хлебе у цирюльника Ивана Яковлевича. Конечно, «гроба с размытого кладбища» - были внутри пейзажа, стали натюрмортом. Такое сочетание современные литературоведы называют синергией. Слово взято из богословия, означает совместную работу Бога и человека по обустройству мира. В более узком значении – соединение различных средств художественной изобразительности для создания единого образа. В широком значении – единение поэта с природой и Богом, как в стихотворении М. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Там полная гармония пустыни, которая внемлет богу, звезда со звездой, кремнистый путь и путь поэта, боль о Вселенной – и нет натюрморта там, где все живое, ты сам лишь часть пейзажа даже в своем вечном сне. Ничто не мертво.
И «Русский огонек» Рубцова – бескрайнее снежное мертвое поле соответствует его душе – и опять божественный промысел – огонек, который соответствует просвету в его судьбе. Люди такие, что нельзя здесь погибнуть даже в кромешной мгле. Они всегда кого-то ждут.
Какая глушь! Я был один живой
Один живой в бескрайнем мёртвом поле!
Вдруг тихий свет — пригрезившийся, что ли? —
Мелькнул в пустыне, как сторожевой.
И опять нет натюрморта, фотографии внутри избы, куда пришел путник – и они как живые, с особым смыслом пребывания здесь поэта, ожидания, незапертых дверей.
У Николая Гумилева для описания натюрморта – часов с остановившимся маятником используется сравнение – элемент пейзажа- луна:
Но вечером... О, как она страшна,
Ночная тень за шкафом, за киотом,
И маятник, недвижный, как луна,
Что светит над мерцающим болотом!
Синергия – божественное в обыденном, житийственном, элемент спасения. Элемент спасения – песни матери, пушкинский дуб у Лукоморья – покой.
Задание 1. Прочитайте стихотворение С.Есенина «Ус». Определите момент перехода портретной детали в натюрморт. Докажите, что эта баллада несет в себе элементы бунтарства и одновременно обреченности.
Не белы снега по-над Доном
Заметали степь синим звоном.
Под крутой горой, что ль под тыном,
Расставалась мать с верным сыном.
«Ты прощай, мой сын, прощай, чадо,
Знать, пришла пора, ехать надо!
Захирел наш дол по-над Доном,
Под пятой Москвы, под полоном».
То не водный звон за путиной —
Бьет копытом конь под осиной.
Под красневу дремь, под сугредок
Отвечал ей сын напоследок:
«Ты не стой, не плачь на дорогу,
Зажигай свечу, молись богу.
Соберу я Дон, вскручу вихорь,
Полоню царя, сниму лихо».
Не река в бугор била пеной —
Вынимал он нож с подколена,
Отрезал с губы ус чернявый,
Говорил слова над дубравой:
«Уж ты, мать моя, голубица,
Сбереги ты ус на божнице;
Окропи его красным звоном,
Положи его под икону!»
Гикал-ухал он под туманом,
Подымалась пыль за курганом.
А она в ответ, как не рада:
«Уж ты сын ли мой, мое чадо!»
*
На крутой горе, под Калугой,
Повенчался Ус с синей вьюгой.
Лежит он на снегу под елью,
С весела-разгула, с похмелья.
Перед ним все знать да бояры,
В руках золотые чары.
«Не гнушайся ты, Ус, не злобуй,
Подымись, хоть пригубь, попробуй!
Нацедили мы вин красносоких
Из грудей из твоих из высоких.
Как пьяна с них твоя супруга,
Белокосая девица-вьюга!»
Молчит Ус, не кинет взгляда, —
Ничего ему от земли не надо.
О другой он земле гадает,
О других небесах вздыхает…
*
Заждалася сына дряхлая вдовица,
День и ночь горюя, сидя под божницей.
Вот прошло-проплыло уж второе лето,
Снова снег на поле, а его все нету.
Подошла, взглянула в мутное окошко…
«Не одна ты в поле катишься, дорожка!»
Свищет сокол-ветер, бредит тихим Доном.
«Хорошо б прижаться к золотым иконам…»
Села и прижалась, смотрит кротко-кротко…
«На кого ж похож ты, светлоглазый отрок?..
А! — сверкнули слезы над увядшим усом. —
Это ты, о сын мой, смотришь Иисусом!»
Радостью светит она из угла.
Песню запела и гребень взяла.
Лик ее старческий ласков и строг.
Встанет, присядет за печь, на порог.
Вечер морозный, как волк, темно-бур…
Кличет цыплят и нахохленных кур:
«Цыпушки-цыпы, свет-петушок!..»
Крепок в руке роговой гребешок.
Стала, уставилась лбом в темноту,
Чешет волосья младенцу Христу.
Несомненно, синергия здесь в прямом и переносном значении. – сын для матери обретает божественную сущность, для Есенина таковой является сущность бунтаря. Ус, обрезанный ножом, обрел предметную сущность и стал фетишем. Соединил воспоминания о себе с божьим ликом. И момент перехода между жизнью и смертью – сугубо лермонтовский. Это не совсем смерть, но уже и не жизнь.
Иосиф Бродский читает стих Сергея Есенина о разбойнике, отрезавшем свой ус и сунувшим его за икону, и пишет заголовок своего отрывка: "Натюрморт". Можно, конечно, дать ссылку, но Гоголь же не давал, когда вырисовывал в своем "Ревизоре" "Страшный суд" Микеланджело. Значит, рано или поздно догадаются, что читал, на что смотрел, когда рассуждал о мертвой и живой природе. Как эти две природы в ноосфере, однако, переплелись. Икона, ус - портрет это или натюрморт, что бы более подходило для определения? «Портретонатюрморт»? Синергия.
Метафоры мать-Богородица, сын - Христос. Странные сближения. Уж не нарочно ли? Зачем Бродский закинул эту отсылку в конец рассуждения о людях и вещах? Натюрморте? Что там было у Есенина? Ус. Он предмет или тело, если отрезан? Распятие, икона - это вещь? Этот предметный, опредмеченный "бог земного круга" по мысли Пушкина, еще раньше перешедший от предметности и вещности к рождению бога. Не того, который жил... но который умер и выжил. Вещь на высшей стадии всех и всяческих эволюций когда она через свое бессмертие соединяет мир ушедших с миром печалящихся о них.
Гикал-ухал он под туманом,
Подымалась пыль за курганом.
А она в ответ, как не рада:
"Уж ты сын ли мой, мое чадо!" (Сергей Есенин)
Мать говорит Христу:
- Ты мой сын или мой
Бог? Ты прибит к кресту.
Как я пойду домой? (Иосиф Бродский)
Села и прижалась, смотрит кротко-кротко...
"На кого ж похож ты, светлоглазый отрок?..
А! - сверкнули слезы над увядшим усом. -
Это ты, о сын мой, смотришь Иисусом!"
(Сергей Есенин)
И все-таки портрет. Он же - очевидная кличка бунтовщика. Имя, вещь, бытие. Мать перед портретом сына или бога? У всех матерей в младенце-Христе есть что-то родное. Отсюда литературные реминисценции.
И эта особенная часть в монтажной композиции "Натюрморта": "Мать говорит Христу...". Разве не все равно, распятие - это портрет или натюрморт? "Разницы, диво, нет". Мир вещей соединяет с миром людей простой предмет, на котором не ясно, умер или жив Христос. Он мертвое тело или живая душа?
Задание 2. Прочитайте стихотворение Бродского «Натюрморт». Найдите в нем предметные детали и поясните, к чему они относятся: времени, пространству, быту, интерьеру, пейзажу, психологии? Найдите метафизические и поэтические переклички у Бродского с Есениным.
Задание 3. Прочитайте отрывок из поэмы «Мертвые души» Гоголя. Поясните, как интерьер бала может превратиться в натюрморт – кусок сахара. Зачем он так делает? Как это описание связано с заглавием «Мертвые души»?
«Вошедши в зал, Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшный. Всё было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая клюшница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостию старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь и опять прилететь с новыми докучными эскадронами».
Вы хотите произвести впечатление – появиться на балу в фраке, - а вы всего лишь муха на сахаре соблазнов.
Переделайте текст-описание в текст-повествование, затем в текст-рассуждение.
Задание 4. Прочитайте стихотворение «Пророк» Пушкина. Подумайте, в каком значении к этому стихотворению может быть употреблено слово «синергия»? Где происходит соединение божественного с человеческим? Какие части портрета (тела человека) Пушкин изобразил как вещи?
Пророк
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
Задание 5. Сочините свой «отрывок» используя соединение различных деталей (синергию).
Сравните «Пророк» Пушкина с «Пророком» Лермонтова по вопросам:
● История создания.
● К каким литературным направлениям и жанрам вы бы их отнесли?
● Понравились или не понравилось прочитанные произведения современникам, вам?
● Сюжет. Центральная фигура. Где и когда происходят изображенные события?
● Какая тема их объединяет? В чем разница звучания этой темы?
● Есть ли перекличка в сюжете, мотивах?
● Какие места в каждом произвели на тебя наиболее сильное впечатление?
● Каков язык произведений?
● Каков эмоциональный ореол?
● Символика цвета.
● Как в произведениях реализуются оппозиции верх-низ, запад-восток?
● Над какими вопросами произведения заставили задуматься?
● Какова основная мысль произведений?
● Кому ты советуешь прочитать эти произведения и почему?
Подсказка. Чтобы написать о языке произведений, сделайте лингвистическое упражнение из олимпиадных заданий: прокомментируйте пары слов, с полногласием и неполногласием. Что общего в каждой паре?
Набережная - безбрежная, сберегательный - пренебречь, наволочка - навлекать, облако - оболочка; воротник - возвратить, ворота -вратарь, заголовок - заглавие, главный, глава, голова; голосистый - возглас; загородный - заградительный, перегородить - преградить; деревянный - древесный; дорожить - драгоценный; жеребьёвка - жребий; заполнить - пленный; здоровый - здравница; золотой - златоглавая; укоротить - краткий; молодость - младенец, молочный - Млечный путь; обморочный - мрачный; оборона - бранить; наоборот - обратить; ошеломить - шлем; полотно - платок; порожний - праздный; привередливый - вредный; середина - средний; смородина - смрадный; солод - сладкий; сторожить - стража; теребить - требовать; холодный - прохладный; хоромы - храм; похороны - хранение; чередование - учреждение, через - чрезмерный.
Старославянизмы- с их неполногласием есть и в стихотворении Пушкина «Пророк». Найдите их. Зачем Пушкин их использует? Этот ли прием у Лермонтова?
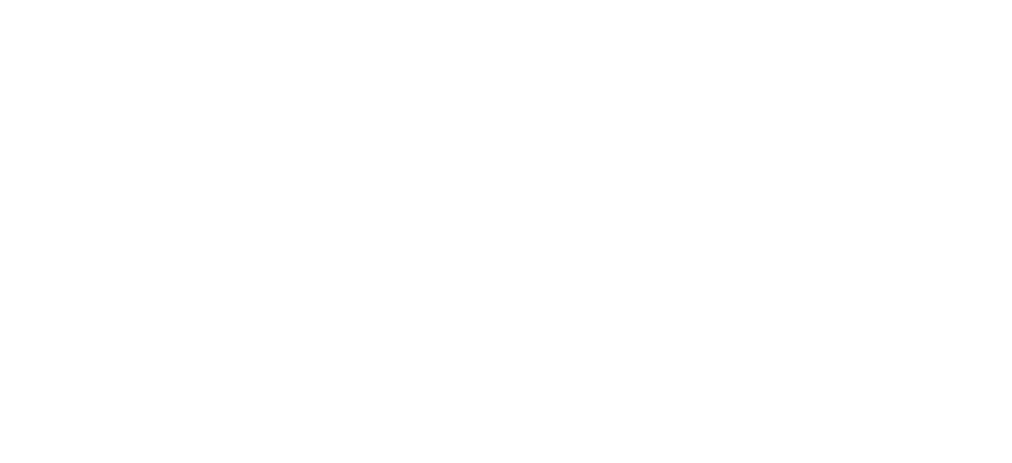
«Пророк» Пушкина с «Пророком» Лермонтова: Библейские мотивы и онтологическая многомерность
В рамках компаративного анализа “Пророка” Пушкина и Лермонтова можно выявить различные стратегии репрезентации библейского мотива и его онтологической трансформации.
Пушкинский текст базируется на сюжете из VI главы книги пророка Исайи, где происходит сакральная трансформация героя. Онтологическая многомерность здесь реализуется через метаморфозы физического и духовного порядка: “отверзлись вещие зеницы”, “язык - жалом змеи”, “сердце - уголь”. Структура текста демонстрирует движение от земного к божественному, где пророк становится проводником высшей истины.
Лермонтовский “Пророк” опирается на традицию книги пророка Иеремии, где акцент смещается на экзистенциальное измерение пророческого служения. Онтологическая многомерность здесь раскрывается через противопоставление сакрального и профанного: пророк, наделенный божественным даром, сталкивается с человеческим непониманием.
В плане мотивного комплекса у Пушкина доминирует мотив преображения, реализуемый через сакральную семантику. У Лермонтова превалирует мотив отверженности, что подтверждается наличием мотивов “насмешек”, “презрения” и “изгнания”.
С точки зрения композиционной организации, в тексте Пушкина наблюдается восходящая градация от физического преображения к духовному просветлению. Лермонтов использует нисходящую градацию: от получения божественного дара к его непризнанию людьми.
Лексический уровень текстов демонстрирует различные стратегии библейской интертекстуальности: у Пушкина используется высокая церковнославянская лексика, создающая торжественный стиль. Лермонтов комбинирует церковнославянизмы с современной лексикой, что создает эффект контраста между сакральным и профанным.
Онтологическая многомерность в обоих текстах реализуется через различные семиотические стратегии: у Пушкина - через сакрализацию поэтического творчества, где поэт уподобляется пророку в его миссии “глаголом жечь сердца людей”. У Лермонтова - через экзистенциальную проблематику отверженного пророка, чья миссия обречена на непонимание.
Таким образом, можно констатировать различные стратегии репрезентации библейского мотива: у Пушкина - через призму классической одухотворенности и веры в высокую миссию поэта-пророка, у Лермонтова - посредством романтического осмысления трагической судьбы пророка-изгнанника. Это находит отражение как в структурно-композиционных особенностях текстов, так и в системе их семантической организации, где происходит трансформация библейского сюжета в контексте русской литературной традиции.
В контексте онтологической парадигмы оба текста демонстрируют различные модели бытия поэта-пророка: пушкинская - как путь восхождения к высшему предназначению, лермонтовская - как путь испытаний и отверженности. Это создает сложную систему смыслопорождения, где библейский мотив становится основой для философского осмысления роли поэта в мире.
Пушкинский текст базируется на сюжете из VI главы книги пророка Исайи, где происходит сакральная трансформация героя. Онтологическая многомерность здесь реализуется через метаморфозы физического и духовного порядка: “отверзлись вещие зеницы”, “язык - жалом змеи”, “сердце - уголь”. Структура текста демонстрирует движение от земного к божественному, где пророк становится проводником высшей истины.
Лермонтовский “Пророк” опирается на традицию книги пророка Иеремии, где акцент смещается на экзистенциальное измерение пророческого служения. Онтологическая многомерность здесь раскрывается через противопоставление сакрального и профанного: пророк, наделенный божественным даром, сталкивается с человеческим непониманием.
В плане мотивного комплекса у Пушкина доминирует мотив преображения, реализуемый через сакральную семантику. У Лермонтова превалирует мотив отверженности, что подтверждается наличием мотивов “насмешек”, “презрения” и “изгнания”.
С точки зрения композиционной организации, в тексте Пушкина наблюдается восходящая градация от физического преображения к духовному просветлению. Лермонтов использует нисходящую градацию: от получения божественного дара к его непризнанию людьми.
Лексический уровень текстов демонстрирует различные стратегии библейской интертекстуальности: у Пушкина используется высокая церковнославянская лексика, создающая торжественный стиль. Лермонтов комбинирует церковнославянизмы с современной лексикой, что создает эффект контраста между сакральным и профанным.
Онтологическая многомерность в обоих текстах реализуется через различные семиотические стратегии: у Пушкина - через сакрализацию поэтического творчества, где поэт уподобляется пророку в его миссии “глаголом жечь сердца людей”. У Лермонтова - через экзистенциальную проблематику отверженного пророка, чья миссия обречена на непонимание.
Таким образом, можно констатировать различные стратегии репрезентации библейского мотива: у Пушкина - через призму классической одухотворенности и веры в высокую миссию поэта-пророка, у Лермонтова - посредством романтического осмысления трагической судьбы пророка-изгнанника. Это находит отражение как в структурно-композиционных особенностях текстов, так и в системе их семантической организации, где происходит трансформация библейского сюжета в контексте русской литературной традиции.
В контексте онтологической парадигмы оба текста демонстрируют различные модели бытия поэта-пророка: пушкинская - как путь восхождения к высшему предназначению, лермонтовская - как путь испытаний и отверженности. Это создает сложную систему смыслопорождения, где библейский мотив становится основой для философского осмысления роли поэта в мире.

Какую роль в стихотворении Есенина играет соединение живой и мертвой природы, пейзажа, портрета и натюрморта?
Исповедь хулигана
Не каждый умеет петь,Не каждому дано яблоком
Падать к чужим ногам.
Сие есть самая великая исповедь,
Которой исповедуется хулиган.
Я нарочно иду нечёсаным,
С головой, как керосиновая лампа, на плечах.
Ваших душ безлиственную осень
Мне нравится в потёмках освещать.
Мне нравится, когда каменья брани
Летят в меня, как град рыгающей грозы,
Я только крепче жму тогда руками
Моих волос качнувшийся пузырь.
Так хорошо тогда мне вспоминать
Заросший пруд и хриплый звон ольхи,
Что где-то у меня живут отец и мать,
Которым наплевать на все мои стихи,
Которым дорог я, как поле и как плоть,
Как дождик, что весной взрыхляет зеленя.
Они бы вилами пришли вас заколоть
За каждый крик ваш, брошенный в меня.
Бедные, бедные крестьяне!
Вы, наверно, стали некрасивыми,
Так же боитесь бога и болотных недр.
О, если б вы понимали,
Что сын ваш в России
Самый лучший поэт!
Вы ль за жизнь его сердцем не индевели,
Когда босые ноги он в лужах осенних макал?
А теперь он ходит в цилиндре
И лакированных башмаках.
Но живёт в нём задор прежней вправки
Деревенского озорника.
Каждой корове с вывески мясной лавки
Он кланяется издалека.
И, встречаясь с извозчиками на площади,
Вспоминая запах навоза с родных полей,
Он готов нести хвост каждой лошади,
Как венчального платья шлейф.
Я люблю родину.
Я очень люблю родину!
Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь.
Приятны мне свиней испачканные морды
И в тишине ночной звенящий голос жаб.
Я нежно болен вспоминаньем детства,
Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь.
Как будто бы на корточки погреться
Присел наш клён перед костром зари.
О, сколько я на нём яиц из гнёзд вороньих,
Карабкаясь по сучьям, воровал!
Все тот же ль он теперь, с верхушкою зелёной?
По-прежнему ль крепка его кора?
А ты, любимый,
Верный пегий пёс?!
От старости ты стал визглив и слеп
И бродишь по двору, влача обвисший хвост,
Забыв чутьём, где двери и где хлев.
О, как мне дороги все те проказы,
Когда, у матери стянув краюху хлеба,
Кусали мы с тобой её по разу,
Ни капельки друг другом не погребав.
Я всё такой же.
Сердцем я все такой же.
Как васильки во ржи, цветут в лице глаза.
Стеля стихов злачёные рогожи,
Мне хочется вам нежное сказать.
Спокойной ночи!
Всем вам спокойной ночи!
Отзвенела по траве сумерек зари коса…
Мне сегодня хочется очень
Из окошка луну…
Синий свет, свет такой синий!
В эту синь даже умереть не жаль.
Ну так что ж, что кажусь я циником,
Прицепившим к заднице фонарь!
Старый, добрый, заезженный Пегас,
Мне ль нужна твоя мягкая рысь?
Я пришёл, как суровый мастер,
Воспеть и прославить крыс.
Башка моя, словно август,
Льётся бурливых волос вином.
Я хочу быть жёлтым парусом
В ту страну, куда мы плывём.
Что происходит при переходе цветов - элемента пейзажа - в натюрморт?
Цветы
Цветы с их с ума сводящим принципом очертаний,придающие воздуху за стеклом помятый
вид, с воспаленным «А», выглядящим то гортанней,
то шепелявей, то просто выкрашенным помадой,
— цветы, что хватают вас за душу то жадно и откровенно,
то как блеклые губы, шепчущие «наверно».
Чем ближе тело к земле, тем ему интересней,
как сделаны эти вещи, где из потусторонней
ткани они осторожно выкроены без лезвий
— чем бестелесней, тем, видно, одушевленней,
как вариант лица, свободного от гримасы
искренности, или звезды, отделавшейся от массы.
Они стоят перед нами выходцами оттуда,
где нет ничего, опричь возможности воплотиться
безразлично во что — в каплю на дне сосуда,
в спички, в сигнал радиста, в клочок батиста,
в цветы; еще поглощенные памятью о «сезаме»,
смотрят они на нас невидящими глазами.
Цветы! Наконец вы дома. В вашем лишенном фальши
будущем, в пресном стекле пузатых
ваз, где в пору краснеть, потому что дальше
только распад молекул, по кличке запах,
или — белеть, шепча «пестик, тычинка, стебель»,
сводя с ума штукатурку, опережая мебель.
(И.Бродский)
В рамках компаративного анализа репрезентации феномена вещи в поэтических текстах Маяковского “Флейта-позвоночник” и Бродского “Натюрморт” можно выявить различные стратегии онтологической концептуализации вещного мира.
В поэме Маяковского вещь приобретает статус экзистенциального феномена, функционирующего как ретранслятор между психическим состоянием субъекта и внешним пространством. Вещная деталь здесь выходит за рамки простого предметного обозначения, актуализируясь как образ человеческого существования. Это подтверждается наличием метафорических конструкций, когда вещи наделяются антропоморфными характеристиками: “стихами наполненный череп, как чашу вина”.
Бродский в “Натюрморте” реализует иную парадигму вещной образности, его вещь выступает как элемент визуального ряда мертвый-живой, формирующий пространственную организацию текста. Здесь происходит деконструкция традиционного понимания вещи через призму визуального восприятия, что создает эффект онтологической многомерности.
В структурном аспекте у Маяковского «Флейта-позвоночник» наблюдается трансгрессия вещного мира в экзистенциальное измерение, где вещи становятся носителями психологического содержания. Вещь у футуриста - это феномен, на который направлена интенция человека, что коррелирует с феноменологическими идеями Хайдеггера о “вещественности”.
У Бродского происходит иная трансформация вещного мира: вещи существуют в пространстве визуального восприятия, формируя особую эстетическую реальность. Здесь вещь утрачивает свою предметную конкретность, превращаясь в элемент философской рецепции: живое или мертвое снимается местоимением.
С точки зрения семантической организации, в тексте Маяковского преобладает стратегия гиперболизации вещного мира, и его вещи живые, блестящие, они в своем блеске приобретают космический масштаб: “Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным”. Бродский же использует стратегию редукции, где вещь существует в контексте визуального восприятия, формируя особую эстетическую реальность в исторической памяти – вещи его старые, заброшенные, пыльные.
Можно констатировать различные стратегии репрезентации вещного мира: у Маяковского - через призму экзистенциальной онтологии, где вещь становится носителем психологического и социального содержания, у Бродского - посредством эстетической деконструкции, где вещь существует в пространстве визуального восприятия. Это находит отражение как в структурно-семантической организации текстов, так и в системе их образно-символической системы, где происходит трансформация традиционного понимания вещи в более сложную систему смыслопорождения.
В контексте интертекстуального анализа оба текста демонстрируют диалог с философской традицией осмысления вещи, однако реализуют его различными семиотическими средствами: Маяковский как стратегию экзистенциальной онтологизации, Бродский - как эстетическую деконструкцию вещного мира.
В поэме Маяковского вещь приобретает статус экзистенциального феномена, функционирующего как ретранслятор между психическим состоянием субъекта и внешним пространством. Вещная деталь здесь выходит за рамки простого предметного обозначения, актуализируясь как образ человеческого существования. Это подтверждается наличием метафорических конструкций, когда вещи наделяются антропоморфными характеристиками: “стихами наполненный череп, как чашу вина”.
Бродский в “Натюрморте” реализует иную парадигму вещной образности, его вещь выступает как элемент визуального ряда мертвый-живой, формирующий пространственную организацию текста. Здесь происходит деконструкция традиционного понимания вещи через призму визуального восприятия, что создает эффект онтологической многомерности.
В структурном аспекте у Маяковского «Флейта-позвоночник» наблюдается трансгрессия вещного мира в экзистенциальное измерение, где вещи становятся носителями психологического содержания. Вещь у футуриста - это феномен, на который направлена интенция человека, что коррелирует с феноменологическими идеями Хайдеггера о “вещественности”.
У Бродского происходит иная трансформация вещного мира: вещи существуют в пространстве визуального восприятия, формируя особую эстетическую реальность. Здесь вещь утрачивает свою предметную конкретность, превращаясь в элемент философской рецепции: живое или мертвое снимается местоимением.
С точки зрения семантической организации, в тексте Маяковского преобладает стратегия гиперболизации вещного мира, и его вещи живые, блестящие, они в своем блеске приобретают космический масштаб: “Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным”. Бродский же использует стратегию редукции, где вещь существует в контексте визуального восприятия, формируя особую эстетическую реальность в исторической памяти – вещи его старые, заброшенные, пыльные.
Можно констатировать различные стратегии репрезентации вещного мира: у Маяковского - через призму экзистенциальной онтологии, где вещь становится носителем психологического и социального содержания, у Бродского - посредством эстетической деконструкции, где вещь существует в пространстве визуального восприятия. Это находит отражение как в структурно-семантической организации текстов, так и в системе их образно-символической системы, где происходит трансформация традиционного понимания вещи в более сложную систему смыслопорождения.
В контексте интертекстуального анализа оба текста демонстрируют диалог с философской традицией осмысления вещи, однако реализуют его различными семиотическими средствами: Маяковский как стратегию экзистенциальной онтологизации, Бродский - как эстетическую деконструкцию вещного мира.
Смысл старых вещей – пыль времени
В стихотворении Тарковского «Вещи» - натюрморт памяти, предметный мир его детства. В двенадцати строках, связанный анафорой, автор перечисляет вещи, среди которых он жил: «Где лампы-«молнии»? Где черный порох? // Где черная вода со дна колодца?». Единственное, что объединяет обрывки, это общее время существования и постепенное исчезновение вещей из жизни героя ко времени его взросления: «Все меньше тех вещей, среди которых //Я в детстве жил, на свете остается». В стихотворении натюрморт из разноплановых антикварных вещей становятся символом прожитого, воспоминаний. Тарковский размышляет о роли предметного мира, и основная антитеза здесь – прошлое- сегодняшний день.
ВЕЩИ
Все меньше тех вещей, среди которых
Я в детстве жил, на свете остается.
Где лампы-«молнии»? Где черный порох?
Где черная вода со дна колодца?
Где «Остров мертвых» в декадентской раме?
Где плюшевые красные диваны?
Где фотографии мужчин с усами?
Где тростниковые аэропланы?
Где Надсона чахоточный трехдольник,
Визитки на красавцах адвокатах,
Пахучие калоши «Треугольник»
И страусова нега плеч покатых?
Где кудри символистов полупьяных?
Где рослых футуристов затрапезы?
Где лозунги на липах и каштанах,
Бандитов сумасшедшие обрезы?
Где твердый знак и буква «ять» с «фитою»?
Одно ушло, другое изменилось,
И что не отделялось запятою,
То запятой и смертью отделилось.
Я сделал для грядущего так мало,
Но только по грядущему тоскую
И не желаю начинать сначала:
Быть может, я работал не впустую.
А где у новых спутников порука,
Что мне принадлежат они по праву?
Я посягаю на игрушки внука,
Хлеб правнука, праправнукову славу.
(А.Тарковский)
Задание: придумайте список вещей, которые уйдут из жизни через 20 лет, переместите их в пространство музе будущего. Проведите экскурсию. Например: «Перед вами — артефакты эпохи материальных платёжных средств. Ещё 20 лет назад без кошелька с картами и наличкой из дома не выходили. А чеки складывали в ящики, чтобы потом сверить расходы. Сегодня всё это — музейные экспонаты. Платежи осуществляются через биометрию: достаточно взгляда или прикосновения к терминалу. История покупок хранится в цифровом кошельке, доступ к которому — только у владельца. Маска мошенника и наушники - таким его видели представители поколения отцов и рисовали на плакатах».
«Натюрморт» Иосифа Бродского, так же, как и «Вещи» Тарковского, относится к философской лирике, и в этом стихотворении предметный мир осмысляется как антитеза «живое-мертвое», в которую включено и распятье, найденное в шкафу вместе с епитрахилью и – рифма- пылью.
Как и в «Вещах», в «Натюрморте» изделия изображены как памятники времени: «...Сама // вещь, как правило, пыль... // Ибо пыль — это плоть // времени; плоть и кровь». У этих произведений есть и различия. Если у Тарковского предметный мир — антикварная часть жизни человека, то у Бродского он больше связан с запрещенным в советское время церковным атрибутом и сравнением себя с распятием, когда не знаешь, жив ты или еще мертв, портрет ты или уже натюрморт: «Видимо, смерть моя // испытывает меня...», «Я неподвижен. Два // бедра холодны, как лед». Отождествляя себя с неодушевлёнными предметами и дополняя картину фантазией о встрече со смертью в девятой части, автор переосмысляет саму идею смерти, ведь жизнь мало чем отличается от небытия. Диалог Марии и Христа переводит с дилеммы живое -мертвое на твой- не твой.