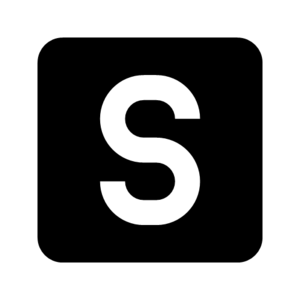Гегелевская идея в миросозерцании Раскольникова
Философская идея в русской литературе
"Тварь дрожащая" и "право имею" - это метафоры, соответствующими гегелевским понятиям раба и господина в "Феноменологии духа"
В школьных сочинениях встречается неверная мысль, что именно идея погубила Раскольникова. Вопрос: Почему она не погубила самого Гегеля, если она - часть его системы философии истории, а напротив, сделала великим? Судьба Раскольникова - быть в бедности, равно как и судьба его сестры Дуни. Встречаясь с антитезисами, он всегда старался противовпоставить им тезис - и теоретически- убийство как выход из антитезиса. В результате каторга как новый антитезис. Что станет тезисом?

Найдите соответствие между теорией Гегеля и размышлениями Раскольникова в "Преступлении и наказании".
"Для возникновения человеческой реальности в качестве реальности «признанной» нужно, чтобы в живых остались оба противника. Но это возможно только при том условии, что в борьбе они поведут себя по-разному. В самой борьбе и посредством борьбы /dans et par/, посредством нередуцируемых, то бишь «невыводимых» и непредсказуемых, актов свободы они учреждают свое неравенство. Один из них, вовсе не будучи к тому каким-либо образом «предрасположенным», испугается другого, уступит ему, откажется от риска пожертвовать жизнью ради удовлетворения своего желания быть «признанным». И ему придется забыть об этом своем желании и удовлетворить желание другого: ему придется «признать» его, а самому остаться «непризнанным». Так вот, такое «признание» означает признание другого своим Господином, а также признание и объявление себя Рабом Господина.
Иначе говоря, человек никогда не появляется на свет просто человеком. Он всегда — неминуемо и по сути — либо Господин, либо Раб. Если человеческая реальность образуется только как реальность общественная, то сообщество будет человеческим обществом, во всяком случае в своих истоках, только при том условии, что в нем будут Господа и Рабы, существования «самостоятельные» и «зависимые». Вот почему говорить о происхождении самосознания — значит обязательно вести речь о «самостоятельности и несамостоятельности Самосознания, о Господстве и Рабстве».
Если человеческое бытие учреждается не иначе как в борьбе и посредством борьбы, которая приводит к установлению отношений Господина и Раба, то его дальнейшие становление и раскрытие также обусловлены этим фундаментальным общественным отношением. И если человек есть не что иное, как собственное становление, если его человеческое бытие в пространстве есть его бытие во времени или в качестве времени, если раскрываемая человеческая реальность есть не что иное, как всеобщая история, то история эта может быть только историей взаимоотношений Господства и Рабства: историческая «диалектика» — это «диалектика» Господина и
Раба. Но если противоположность «тезиса» и «антитезиса» имеет какой-то смысл только в рамках примиряющего «синтеза», если у истории в точном смысле слова обязательно должен быть конец, если становящийся человек в конце концов должен стать состоявшимся человеком, если Желание должно привести к удовлетворению, если человеческая наука должна обрести достоинство окончательной и всеобщей истины, то взаимоотношения Господина и Раба должны окончиться их «диалектическим снятием»...
Стало быть, человеку Борьбы незачем убивать своего противника. Он должен его «диалектически» снять. Это значит, что он должен сохранить ему жизнь и сознание, отобрав у него только самостоятельность. Он должен снять его только в той мере, в какой он ему противостоит и действует против него. Иными словами, он должен его поработить.
Не только сам Господин считает себя Господином. Раб тоже считает его таковым. Стало быть, Господин признан, и признан в своем человеческом достоинстве. Однако признание это — одностороннее, потому что Господин со своей стороны не признает за Рабом человеческого достоинства. Таким образом, его признает тот, кого сам он не признает. И в этом его беда и трагедия. Господин боролся и рисковал жизнью ради признания, но оно потеряло всякий смысл. Какой толк в признании со стороны того, кто не признан достойным судить о достоинстве. Следовательно, положение Господина — жизненный тупик".
(А.Кожев. Введение в чтение Гегеля)
Иначе говоря, человек никогда не появляется на свет просто человеком. Он всегда — неминуемо и по сути — либо Господин, либо Раб. Если человеческая реальность образуется только как реальность общественная, то сообщество будет человеческим обществом, во всяком случае в своих истоках, только при том условии, что в нем будут Господа и Рабы, существования «самостоятельные» и «зависимые». Вот почему говорить о происхождении самосознания — значит обязательно вести речь о «самостоятельности и несамостоятельности Самосознания, о Господстве и Рабстве».
Если человеческое бытие учреждается не иначе как в борьбе и посредством борьбы, которая приводит к установлению отношений Господина и Раба, то его дальнейшие становление и раскрытие также обусловлены этим фундаментальным общественным отношением. И если человек есть не что иное, как собственное становление, если его человеческое бытие в пространстве есть его бытие во времени или в качестве времени, если раскрываемая человеческая реальность есть не что иное, как всеобщая история, то история эта может быть только историей взаимоотношений Господства и Рабства: историческая «диалектика» — это «диалектика» Господина и
Раба. Но если противоположность «тезиса» и «антитезиса» имеет какой-то смысл только в рамках примиряющего «синтеза», если у истории в точном смысле слова обязательно должен быть конец, если становящийся человек в конце концов должен стать состоявшимся человеком, если Желание должно привести к удовлетворению, если человеческая наука должна обрести достоинство окончательной и всеобщей истины, то взаимоотношения Господина и Раба должны окончиться их «диалектическим снятием»...
Стало быть, человеку Борьбы незачем убивать своего противника. Он должен его «диалектически» снять. Это значит, что он должен сохранить ему жизнь и сознание, отобрав у него только самостоятельность. Он должен снять его только в той мере, в какой он ему противостоит и действует против него. Иными словами, он должен его поработить.
Не только сам Господин считает себя Господином. Раб тоже считает его таковым. Стало быть, Господин признан, и признан в своем человеческом достоинстве. Однако признание это — одностороннее, потому что Господин со своей стороны не признает за Рабом человеческого достоинства. Таким образом, его признает тот, кого сам он не признает. И в этом его беда и трагедия. Господин боролся и рисковал жизнью ради признания, но оно потеряло всякий смысл. Какой толк в признании со стороны того, кто не признан достойным судить о достоинстве. Следовательно, положение Господина — жизненный тупик".
(А.Кожев. Введение в чтение Гегеля)

Мы видели лишь то, чем является рабство по отношению к господству. Но оно есть самосознание, а поэтому нам нужно рассмотреть теперь, чтб есть оно в себе самом и для себя самого. На первых порах для рабства господин есть сущность; следовательно, самостоятельное для себя сущее сознание есть для него истина [или раскрытая реальность], которая, однако, для него еще не существует в нем. [Раб подчиняется Господину. Он, стало быть, уважает, признает ценность и действительность «самостоятельности», человеческой свободы. Правда, он видит, что у него ее нет. Он видит, что она — всегда у Другого. Ив этом его преимущество. Господин был неспособен признать признающего его Другого и зашел в тупик. Напротив, Раб с самого начала вынужден признавать Другого (Господина). Следовательно, достаточно ему навязать себя Господину, заставить его признать себя — и меж людьми установится обоюдное признание, которое только и может полностью и окончательно сделать человека человеком и принести ему удовлетворение. (Кожев. Введение в чтение Гегеля)
Раскольников пишет статью, в которой описывает положение обычных "тварей дрожащих" и необыкновенных людей в мире. Порфирий Петрович — первый персонаж, раскрывающий эту теорию в романе, хотя и снисходительно, заявляя, что «простые люди должны жить в подчинении, не имеют права преступать закон, потому что, видите ли, они обыкновенны. Но экстраординарные люди имеют право совершать любое преступление и любым образом нарушать закон только потому, что они экстраординарны». Порфирий Петрович тотчас же доводит теорию до абсурда, передергивая, меняя права на обязанности, исключительное на всеобщее, на что Раскольников резонно отвечает, что «необыкновенные люди не всегда обязаны совершать нарушения нравов». Раскольников утверждает, что необыкновенный человек имеет право совершать определенные преступления, исходя из «своей совести», при осуществлении своей идеи всеобщего преуспеяния. Он продолжает эту мысль, заявляя: «Ньютон имел бы право, действительно был бы обяза … уничтожить дюжину или сотню человек ради того, чтобы сделать свои открытия известными всему человечеству». Он продолжает это рассуждение в манере, подобной Гегелю, комментируя, что Ньютон не имел права убивать людей, когда бы и если бы он этого ни захотел, или регулярно воровать; только ради исполнения своего Духовного предназначения, являясь двигателем истории, Ньютон имел право. Раскольников отмечает, что неординарные люди могут справедливо совершать некоторые преступные действия, потому что так было всегда, и потому что решать, что было правильно, что нет, может лишь история. А она всегда права. Он начинает с комментария, что все мировые лидеры являются преступниками, потому что они заменяют старые, иногда священные законы своими новыми, а в некоторых случаях даже проливают кровь. Раскольников утверждает, что такие Герои, как Наполеон, «по самой своей природе должны быть преступниками... иначе им трудно выбраться из общей колеи; и оставаться в общей колее – это то, чему они не могут подчиняться... и, по моему мнению, им действительно не следует подчиняться этому». Параллельно Раскольников приводит аргументы в пользу позиции индивидов, которые выходят за рамки обычных моральных действий, основанных на более высоком качестве их действий, к которым Гегель обратился в «Философии истории».
Верно и обратное: реальность зла делает самые нелепые теории верными. Об этом говорит Фазиль Искандер в своем эссе "Совесть": "Ничего так не тоскует по теории, как зло. Дай человеку систему взглядов - и он убьет свою мать. На это обратил внимание еще Достоевский. И дал достаточно исчерпывающий ответ. почему так: зло незаметно меняет одно слово другим, подменяет смыслы, как шулер карты: когда Порфирий Петрович излагал Раскольникову его теорию, напечатанную в статье два месяца тому назад, то поменял в своей вольной интерпретации "имют право" на "должны" по поводу послушания и весь смысл поменялся - они сразу превращаются из цели в средство - и сразу вся теория идет против Канта и его категорического императива. Фигура умолчания - затянувшееся детство, детское отчаяние, импульстивное желание покуражиться, и уже потом - сон об оазисе, что снился герою. Сделать счастливым человечество, а не себя - Наполеоном. Но разве можно со следователем - о мечтах? Раскольников - протестантов- гегелев - нечто маргинальное, каковой никогда бы не смогла стать "Феноменология духа" в Германии, но стала таковой в России. Предмет желания "твари дрожащей" - достоинство твари "право имеющей". Ее самосознание самодовольства и счастья беззаботного нерабского бытия. Мы видим теорию Гегеля из гегельянских кружков достоевской России - он всю ее отдал Раскольникову, пометив говорящую фамилию топором, к которому призывали иные гегельянцы. Порфирий Петрович переводит автометафоры Раскольникова в метаморфозы: "Тварь дрожащая" становится Наполеоном в результате преступления, дозволенного теорией. Некое историософское допущение становится общечеловеческим законом морали.
Ворая часть рассуждения Порфирию Петровичу как бы и вовсе непонятна: он слушает ее из уст Раскольникова, подстроившегося под его интонацию, тут непроизвольно, потому как и сама вторая часть иронична - обычные люди - "твари дрожащие" - рабы - начинают душить гения и имеют тоже на это право. Но получается, должны. Раз уж играем в зеркало, то "должны", в этом их природа: рядиться под исключительных и убивать по-настоящему исключительных. Ответ на вопрос. За преступление через норму наказание в виде смерти. Зло подделывается под теорию, но и теория не уступает, проделывая то же самое, она приводит к абсурду поддельщика.
Непойманный убийца как правило совершает новые убийства не из патологической склонности к убийствам, но для того, чтобы освободиться от тяготящего его чувства чудовищной исключительности самого первого убийства - Мефистофель зовет сердце человека к новым девочкам Новые преступления против чести и достоинства выстраиваются в новую систему взглядов, в теорию самооправдания. Таков двойник Раскольникова Свидригайлов. Только во сне его мы понимаем, что под его страстью к девочкам - черт, а не реальность, русский мистицизм Что он избрал и его, как своего очередного Фауста, как живую душу в противовес мертвым и растлевает ее. А идеи уже тащатся следом, как прикрытие и самооправдание. А где-то там на небе бог, что призовет именно их, кого Мефисто больше всего желал заполучить. Зачем герои Достоевского на себя наговаривают невозможное? Великолепный Ставрогин винит себя в развращении юной и ее смерти - обратим внимание, не автор винит, а он сам себя - "У Тихона". Несчастный Тихон, он не понимает, что имеет дело с хитрейшим, коварнейшим самооговором, тем хитрее и коварнее, чем реалистичнее. Тихон с присущим ему мистицизмом - в побочном экстазе антирелигии именем бога комментирует и говорит о страданиях. Ставрогину того и нужно, ему приятно, когда его видят страдающим.
Ворая часть рассуждения Порфирию Петровичу как бы и вовсе непонятна: он слушает ее из уст Раскольникова, подстроившегося под его интонацию, тут непроизвольно, потому как и сама вторая часть иронична - обычные люди - "твари дрожащие" - рабы - начинают душить гения и имеют тоже на это право. Но получается, должны. Раз уж играем в зеркало, то "должны", в этом их природа: рядиться под исключительных и убивать по-настоящему исключительных. Ответ на вопрос. За преступление через норму наказание в виде смерти. Зло подделывается под теорию, но и теория не уступает, проделывая то же самое, она приводит к абсурду поддельщика.
Непойманный убийца как правило совершает новые убийства не из патологической склонности к убийствам, но для того, чтобы освободиться от тяготящего его чувства чудовищной исключительности самого первого убийства - Мефистофель зовет сердце человека к новым девочкам Новые преступления против чести и достоинства выстраиваются в новую систему взглядов, в теорию самооправдания. Таков двойник Раскольникова Свидригайлов. Только во сне его мы понимаем, что под его страстью к девочкам - черт, а не реальность, русский мистицизм Что он избрал и его, как своего очередного Фауста, как живую душу в противовес мертвым и растлевает ее. А идеи уже тащатся следом, как прикрытие и самооправдание. А где-то там на небе бог, что призовет именно их, кого Мефисто больше всего желал заполучить. Зачем герои Достоевского на себя наговаривают невозможное? Великолепный Ставрогин винит себя в развращении юной и ее смерти - обратим внимание, не автор винит, а он сам себя - "У Тихона". Несчастный Тихон, он не понимает, что имеет дело с хитрейшим, коварнейшим самооговором, тем хитрее и коварнее, чем реалистичнее. Тихон с присущим ему мистицизмом - в побочном экстазе антирелигии именем бога комментирует и говорит о страданиях. Ставрогину того и нужно, ему приятно, когда его видят страдающим.
Проанализируйте отрывок из статьи Василия Розанова: "В одной фантастической повести Гоголь рассказывает, как старый ростовщик, умирая, призвал к себе художника и неотступно просил его срисовать с себя портрет; когда работа уже началась, художник вдруг почувствовал непреодолимое отвращение к тому, что делал, и к этому отвращению примешался какой-то страх. Ростовщик, однако, все следил за работой, какая-то тоска и беспокойство светились в его лице, -- но, когда он увидел, что по крайней мере глаза окончены, в этом лице сверкнула радость. Художник отошел на несколько шагов, чтобы посмотреть на свою работу; но едва он взглянул на нее, как колена его задрожали: в глазах начатого портрета светилась жизнь, настоящая жизнь, та самая, которая уже потухала в его оригинале и каким-то тайным волшебством перенеслась в эту копию. Палитра и кисть выпали из его рук, и он с ужасом выбежал из комнаты. Через несколько часов ростовщик умер. Художник окончил жизнь в монастыре.
Этот рассказ, почему-то, невольно припомнился нам, когда мы задумали говорить о знаменитой легенде Достоевского. Сквозь всю фантастичность в нем как будто мелькает и какая-то правда, и, верно, она-то вывела его на свет сознания из ряда других полузабытых рассказов я связала мысль о нем с занимающим нас предметом. Не выразил ли в нем Гоголь некоторой тайны художественной души, быть может, сознав ее в себе самом? Эта жизнь, перешедшая в создание, это тоскливое желание не умереть прежде, чем совершился такой переход, -- все это как будто напоминает нам что-то главное в жизни самих художников, поэтов, композиторов. Только воплощаемое и воплощающий здесь разделены, и этим замаскирована скрытая аллегория.
Соедините их,-- и вы получите изображение судьбы и личности всякого великого творческого дарования. Там, "откуда не возвращался никто", есть, конечно, жизнь: но нам ничего не рассказано о ней, и, по всему вероятию, это жизнь какая-то совсем особенная, слишком абстрактная для наших живых желаний, несколько холодная и призрачная. Вот почему человек так прилепляется к земле, так боязливо не хочет отделиться от нее; и, так как это ранее или позже все-таки неизбежно, он делает все усилия, чтобы расставание с нею было не полное. Жажда бессмертия, земного бессмертия, есть самое удивительное и совершенно несомненное чувство в человеке. Не оттого ли мы так любим детей, трепещем за жизнь их более, нежели за свою, уже увядающую; и когда имеем радость дожить и до их детей -- привязываемся к ним еще сильнее, чем к собственным.
Даже в минуту совершенного сомнения относительно загробного существования мы находим здесь некоторое утешение: "Пусть мы умрем, но останутся дети наши, а после них -- их дети" {"Подросток", Ф. М. Достоевского. Изд. 3. СПб., 1882, стр. 454.}, -- говорим мы в своем сердце, прижимаясь к дорогой нам земле. Но это бессмертие, эта жизнь нашей крови после того, как мы станем горстью праха, слишком не полна: это какое-то разорванное существование, распределенное в бесчисленных поколениях, и в нем не сохраняется главного, что мы в себе любим, -- нашей индивидуальности, цельной личности. Несравненно полнее существование, которое достигается в великих произведениях духа; в них создающий увековечивает свою личность со всеми своими особыми чертами, со всеми изгибами своего ума и тайнами своей совести. Порою он не хочет раскрыть какой-нибудь стороны своей души, и, однако, жажда в нем бессмертия, индивидуальной, особой от других жизни, так велика, что он скрывает, запрятывает среди прочего и все-таки оставляет в своих произведениях отражение этой стороны: проходят века -- и нужная черта вскрывается и встает полный образ того, кто уже не страшится более смутиться перед людьми. "Строй выше себе пирамиду, бедный человек", -- говорит как будто полный этих ощущений Гоголь {"Арабески", ч. 2. Жизнь.}".
Этот рассказ, почему-то, невольно припомнился нам, когда мы задумали говорить о знаменитой легенде Достоевского. Сквозь всю фантастичность в нем как будто мелькает и какая-то правда, и, верно, она-то вывела его на свет сознания из ряда других полузабытых рассказов я связала мысль о нем с занимающим нас предметом. Не выразил ли в нем Гоголь некоторой тайны художественной души, быть может, сознав ее в себе самом? Эта жизнь, перешедшая в создание, это тоскливое желание не умереть прежде, чем совершился такой переход, -- все это как будто напоминает нам что-то главное в жизни самих художников, поэтов, композиторов. Только воплощаемое и воплощающий здесь разделены, и этим замаскирована скрытая аллегория.
Соедините их,-- и вы получите изображение судьбы и личности всякого великого творческого дарования. Там, "откуда не возвращался никто", есть, конечно, жизнь: но нам ничего не рассказано о ней, и, по всему вероятию, это жизнь какая-то совсем особенная, слишком абстрактная для наших живых желаний, несколько холодная и призрачная. Вот почему человек так прилепляется к земле, так боязливо не хочет отделиться от нее; и, так как это ранее или позже все-таки неизбежно, он делает все усилия, чтобы расставание с нею было не полное. Жажда бессмертия, земного бессмертия, есть самое удивительное и совершенно несомненное чувство в человеке. Не оттого ли мы так любим детей, трепещем за жизнь их более, нежели за свою, уже увядающую; и когда имеем радость дожить и до их детей -- привязываемся к ним еще сильнее, чем к собственным.
Даже в минуту совершенного сомнения относительно загробного существования мы находим здесь некоторое утешение: "Пусть мы умрем, но останутся дети наши, а после них -- их дети" {"Подросток", Ф. М. Достоевского. Изд. 3. СПб., 1882, стр. 454.}, -- говорим мы в своем сердце, прижимаясь к дорогой нам земле. Но это бессмертие, эта жизнь нашей крови после того, как мы станем горстью праха, слишком не полна: это какое-то разорванное существование, распределенное в бесчисленных поколениях, и в нем не сохраняется главного, что мы в себе любим, -- нашей индивидуальности, цельной личности. Несравненно полнее существование, которое достигается в великих произведениях духа; в них создающий увековечивает свою личность со всеми своими особыми чертами, со всеми изгибами своего ума и тайнами своей совести. Порою он не хочет раскрыть какой-нибудь стороны своей души, и, однако, жажда в нем бессмертия, индивидуальной, особой от других жизни, так велика, что он скрывает, запрятывает среди прочего и все-таки оставляет в своих произведениях отражение этой стороны: проходят века -- и нужная черта вскрывается и встает полный образ того, кто уже не страшится более смутиться перед людьми. "Строй выше себе пирамиду, бедный человек", -- говорит как будто полный этих ощущений Гоголь {"Арабески", ч. 2. Жизнь.}".
Вопросы по статье Розанова
Розанов интерпретирует дихотомию как онтологический конфликт между материей (жизнь ростовщика) и формой (портрет). Творческий акт становится актом трансценденции, где художник, подобно демиургу, «переводит» эмпирическое в эстетическое, но при этом сталкивается с угрозой одержимости творением (ср. с мифом о Пигмалионе). Это отражает гегелевскую динамику: дух, отчуждаясь в объекте, теряет контроль над ним, а порой и над самим собой.
Ответ на вопрос 2: Экзистенциальный подтекст
Розанов рассматривает «жажду земного бессмертия» как онтологическую потребность человека в преодолении небытия. В отличие от христианской эсхатологии, где бессмертие связано с загробной жизнью, Розанов подчёркивает не материальную, а культурную преемственность. Творчество становится способом «запечатлеть индивидуальность» через искусство, где «воплощающее» (автор) и «воплощаемое» (произведение) сливаются в диалектическом единстве. Это отражает экзистенциальный страх перед «разорванным существованием» в поколениях, где личность теряет цельность.
Ответ на вопрос 3: Сравнительный анализ с Достоевским
Розанов усматривает параллели между Гоголем и Достоевским в теме «подпольного человека». Если Гоголь создаёт «мертвечину» через гипертрофированную форму, то Достоевский, по Розанову, раскрывает «трагедию живой души». Однако оба писателя, несмотря на различия, отражают антропологический кризис — невозможность человека найти гармонию между социальным бытием и внутренней свободой. В «Легенде о Великом инквизиторе» Розанов видит аллегорию борьбы между «земным бессмертием» (через творчество) и религиозным спасением.
Ответ на вопрос 4: Психоаналитический аспект
Художник в гоголевской повести испытывает «отвращение» к портрету, потому что творение автономизируется, становясь «двойником» создателя. Это отражает страх утраты контроля над собственным творением, аналогичный фрейдовскому понятию uncanny — ощущению «ожившего неживого». Розанов интерпретирует это как кризис авторства, где искусство превращается в «вампира», питающегося жизненной силой творца.
Ответ на вопрос 5: Эстетика «невыразимого»
Идея сокрытия/раскрытия «тайны души» у Розанова связана с романтической иронией — осознанием невозможности полного выражения субъективности. Художник «запрятывает» черты своей души, но они «вскрываются» через века, создавая эффект фрагментарности. Это предвосхищает модернистскую поэтику, где текст становится «археологией души», а археологически настроенный читатель — соучастником творчества.
Ответ на вопрос 6: Онтология творчества
Соединение «воплощаемого» и «воплощающего» у Розанова — метафора диалектики творчества, где произведение становится синтезом жизни и смерти автора. Портрет в повести Гоголя, оживающий после смерти ростовщика, иллюстрирует, как искусство трансформирует эмпирическое в вечное. Это перекликается с гегелевской идеей объективации духа, но у Розанова акцент смещён на экзистенциальную трагедию творца.
Дополнительные контексты для анализа:
- Интерпретация аллегории творчества
- Как Розанов трактует дихотомию «воплощаемого» (ростовщик) и «воплощающего» (художник) в контексте трансценденции творческого акта? Можно ли считать, что «жизнь, перешедшая в создание» отражает гегелевскую идею объективации духа через искусство?
- Экзистенциальный подтекст
- В статье упоминается «жажда земного бессмертия» как ключевой мотив. Как Розанов связывает эту концепцию с экзистенциальным страхом небытия и парадоксом индивидуальности («разорванное существование в поколениях» vs. «цельная личность в творчестве»)?
- Сравнительный анализ с Достоевским
- Какие интертекстуальные параллели усматривает Розанов между гоголевским сюжетом и «легендой Достоевского»? Можно ли говорить о общности антропологической проблематики (например, тема «подпольного человека» как аналога «недовоплощённой» личности)?
- Психоаналитический аспект
- Почему, по мнению Розанова, художник испытывает «непреодолимое отвращение» к портрету? Связано ли это с подавленным страхом автономизации творения (ср. с концепцией uncanny у Фрейда) или с кризисом авторства (творение как «двойник»)?
- Эстетика «невыразимого»
- Как в статье интерпретируется идея сокрытия/раскрытия «тайны души» в искусстве («он скрывает, запрятывает среди прочего… нужная черта вскрывается»)? Соотносится ли это с романтической традицией иронии или с модернистской поэтикой фрагмента?
- Онтология творчества
- Розанов пишет: «Соедините их [воплощаемого и воплощающего] — и вы получите изображение судьбы… творческого дарования». Можно ли считать это утверждение метафорой диалектики творчества, где произведение становится синтезом жизни и смерти автора?
- Критика религиозного дискурса
- Как в статье переосмысливается христианская эсхатология («там, “откуда не возвращался никто”, есть… жизнь холодная и призрачная»)? Противоречит ли жажда земного бессмертия через искусство традиционной теологии воскресения?
- Философские референсы: Гегель (отчуждение духа), Кьеркегор (экзистенциальный страх), Ницше (воля к бессмертию).
- Литературные параллели: «Двойник» Достоевского, «Портрет» Гоголя как прото-экзистенциальные тексты.
- Культурный код: Розановская концепция «метафизики пола» vs. сублимация творческой энергии.
Розанов интерпретирует дихотомию как онтологический конфликт между материей (жизнь ростовщика) и формой (портрет). Творческий акт становится актом трансценденции, где художник, подобно демиургу, «переводит» эмпирическое в эстетическое, но при этом сталкивается с угрозой одержимости творением (ср. с мифом о Пигмалионе). Это отражает гегелевскую динамику: дух, отчуждаясь в объекте, теряет контроль над ним, а порой и над самим собой.
Ответ на вопрос 2: Экзистенциальный подтекст
Розанов рассматривает «жажду земного бессмертия» как онтологическую потребность человека в преодолении небытия. В отличие от христианской эсхатологии, где бессмертие связано с загробной жизнью, Розанов подчёркивает не материальную, а культурную преемственность. Творчество становится способом «запечатлеть индивидуальность» через искусство, где «воплощающее» (автор) и «воплощаемое» (произведение) сливаются в диалектическом единстве. Это отражает экзистенциальный страх перед «разорванным существованием» в поколениях, где личность теряет цельность.
Ответ на вопрос 3: Сравнительный анализ с Достоевским
Розанов усматривает параллели между Гоголем и Достоевским в теме «подпольного человека». Если Гоголь создаёт «мертвечину» через гипертрофированную форму, то Достоевский, по Розанову, раскрывает «трагедию живой души». Однако оба писателя, несмотря на различия, отражают антропологический кризис — невозможность человека найти гармонию между социальным бытием и внутренней свободой. В «Легенде о Великом инквизиторе» Розанов видит аллегорию борьбы между «земным бессмертием» (через творчество) и религиозным спасением.
Ответ на вопрос 4: Психоаналитический аспект
Художник в гоголевской повести испытывает «отвращение» к портрету, потому что творение автономизируется, становясь «двойником» создателя. Это отражает страх утраты контроля над собственным творением, аналогичный фрейдовскому понятию uncanny — ощущению «ожившего неживого». Розанов интерпретирует это как кризис авторства, где искусство превращается в «вампира», питающегося жизненной силой творца.
Ответ на вопрос 5: Эстетика «невыразимого»
Идея сокрытия/раскрытия «тайны души» у Розанова связана с романтической иронией — осознанием невозможности полного выражения субъективности. Художник «запрятывает» черты своей души, но они «вскрываются» через века, создавая эффект фрагментарности. Это предвосхищает модернистскую поэтику, где текст становится «археологией души», а археологически настроенный читатель — соучастником творчества.
Ответ на вопрос 6: Онтология творчества
Соединение «воплощаемого» и «воплощающего» у Розанова — метафора диалектики творчества, где произведение становится синтезом жизни и смерти автора. Портрет в повести Гоголя, оживающий после смерти ростовщика, иллюстрирует, как искусство трансформирует эмпирическое в вечное. Это перекликается с гегелевской идеей объективации духа, но у Розанова акцент смещён на экзистенциальную трагедию творца.
Дополнительные контексты для анализа:
- Розановская концепция «метафизики пола»: Бессмертие через творчество связано с сублимацией сексуальной энергии, что отражает его идею «пол как ноуменальная причина бытия».
- Влияние Кьеркегора: Экзистенциальный страх перед небытием и поиск «индивидуального спасения» через искусство перекликаются с кьеркегоровским понятием страха-трепета (Angst).
- Интертекстуальные связи: Розанов сравнивает Гоголя с Достоевским, называя первого «архиереем мертвечины», а второго — «пророком живой души». Это подчёркивает противоречивость оценок Гоголя — от «гения формы» до «демонического аутиста».
К второй части статьи
Розанов связывает гоголевский «демонизм» с кризисом русской идентичности, где «разорванное сознание» (противоречие между европейской формой и национальным содержанием) порождает экзистенциальную пустоту. Гоголь, по Розанову, стал «зеркалом» этой пустоты, изобразив мир, где душа заменена «мертвыми формами» (чиновники, «мертвые души»). Это отражает утрату «онтологической укорененности» — разрыв с традицией, где искусство (в отличие от религии) не способно восстановить связь с сакральным. Источник: Розанов В.В. «Опавшие листья» .
Контекст для анализа:
- Критика христианской антропологии
- Розанов пишет: «Христианская история и жития мучеников есть один комизм». Как это утверждение связано с его концепцией «метафизики пола» и отрицанием аскетизма? Можно ли считать, что Розанов противопоставляет «живую душу» (языческую витальность) «мертвенности» христианского идеала?
- Гоголь как «антихристианский» писатель
- Почему Розанов называет «Мертвые души» «самой антихристианской книгой»? Связано ли это с тем, что Гоголь, по его мнению, изображает «мертвенность» как онтологическую категорию, отрицая возможность воскресения души? Как это соотносится с сотериологией Достоевского? Пишущий гламур Манилов спасется? Мы знаем, что Гоголь боролся с мертвыми стилями бездуховной литературы, не получается ли по Розанову, что она - эта мертвая литература бездуховных стилей - порождена не Хлестаковым, а богом, не Хлестаков ее в одночасье ее написал, а бог ее создавал?
- Смех и онтология
- Розанов утверждает: «Смех есть недостойное отношение к жизни… жизнь вся божественна». Как это утверждение раскрывает его полемику с гоголевской сатирой? Можно ли усмотреть здесь влияние ницшеанской критики декаданса?
- Гоголь и кризис русской идентичности
- Розанов пишет: «От Гоголя пошло то отвратительное и страшное в душе русского человека, с чем нет справы». Какую роль играет здесь концепт «разорванного сознания» (противоречие между формой и содержанием)? Связан ли гоголевский «демонизм» с утратой «онтологической укорененности» в традиции?
- Искусство как «замена бессмертия»
- В статье говорится: «Великие произведения духа… увековечивают личность со всеми тайнами совести». Как Розанов переосмысляет платоновский мимесис? Является ли творчество, по его мнению, сакральным актом, замещающим религиозное спасение?
- Эсхатология vs. культурная память
- Розанов противопоставляет «холодное загробное существование» и «земное бессмертие через творчество». Как это отражает его полемику с софиологией Соловьёва? Можно ли считать, что Розанов предлагает антропоцентричную теологию искусства?
- Диалектика сакрального и профанного
- Как в статье решается противоречие между «божественностью жизни» (часть II) и «необходимостью сублимации в творчестве» (часть III)? Является ли искусство, по Розанову, компенсаторным механизмом в условиях утраты религиозной веры?
- Гоголь vs. Пушкин
- Розанов называет Гоголя «архиереем мертвечины», а Пушкина — певцом «вечной весны». Как это противопоставление раскрывает его антропологический пессимизм? Связано ли это с критикой рационализма Нового времени?
Розанов связывает гоголевский «демонизм» с кризисом русской идентичности, где «разорванное сознание» (противоречие между европейской формой и национальным содержанием) порождает экзистенциальную пустоту. Гоголь, по Розанову, стал «зеркалом» этой пустоты, изобразив мир, где душа заменена «мертвыми формами» (чиновники, «мертвые души»). Это отражает утрату «онтологической укорененности» — разрыв с традицией, где искусство (в отличие от религии) не способно восстановить связь с сакральным. Источник: Розанов В.В. «Опавшие листья» .
Контекст для анализа:
- Философские параллели: Шестов vs. Розанов (критика рационализма), Бердяев о «творчестве и объективации».
- Литературные аллюзии: «Шинель» Гоголя как символ утраты индивидуальности, «Братья Карамазовы» Достоевского — спор о бессмертии.
- Культурный код: Розановская оппозиция «жизнь vs. аскеза» в контексте Серебряного века.
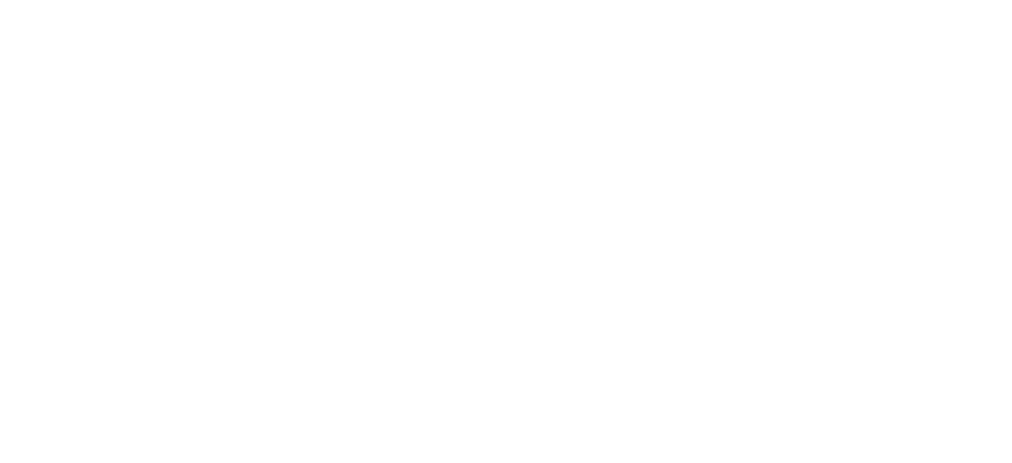
Литературоведческий и философский комментарий к повести А.С. Пушкина «Гробовщик»
(из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», 1830)
1. Контекст создания и место в творчестве Пушкина
«Гробовщик» — одна из пяти «Повестей Белкина», написанных в Болдинскую осень 1830 года, период невероятной творческой продуктивности Пушкина. Цикл, изданный анонимно в 1831 году, стал экспериментом: Пушкин, скрываясь за маской провинциального рассказчика Белкина, играет с жанрами и стилями, пародируя романтические клише и обращаясь к реалистичной прозе. «Гробовщик» выделяется как самая короткая, но насыщенная философскими и социальными подтекстами повесть.
2. Жанровые особенности
Повесть сочетает элементы:
3. Тематика и символы
«Гробовщик» — этапное произведение в эволюции русской прозы. Пушкин, балансируя между иронией и философией, показывает, что даже в «низком» ремесле есть место универсальным истинам. История Адриана Прохорова — не только пародия на романтизм, но и глубокое размышление о природе страха, вины и человеческой суеты. Этот текст стал мостом между пушкинской поэзией и гоголевской прозой, предвосхитив тему «маленького человека» и абсурдизм XX века.
(из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», 1830)
1. Контекст создания и место в творчестве Пушкина
«Гробовщик» — одна из пяти «Повестей Белкина», написанных в Болдинскую осень 1830 года, период невероятной творческой продуктивности Пушкина. Цикл, изданный анонимно в 1831 году, стал экспериментом: Пушкин, скрываясь за маской провинциального рассказчика Белкина, играет с жанрами и стилями, пародируя романтические клише и обращаясь к реалистичной прозе. «Гробовщик» выделяется как самая короткая, но насыщенная философскими и социальными подтекстами повесть.
2. Жанровые особенности
Повесть сочетает элементы:
- Бытового реализма: детализация московского мещанского быта (описание мастерской гробовщика, сплетни соседей).
- Фантастики и гротеска: сон Адриана с мертвецами, где граница между жизнью и смертью размыта.
- Сатиры и черного юмора: ирония над страхом смерти, меркантилизмом героя («мертвые не разоряют живых»).
- Притчи: моральный урок о тщетности корысти и иллюзорности страхов.
3. Тематика и символы
- Смерть как ремесло: Прохоров, делающий гробы «для всех сословий», олицетворяет повседневное отношение к смерти как к рутине. Его профессия — метафора социального неравенства: даже в смерти сохраняется иерархия («первосвященники умирают, как простолюдины»).
- Сон и реальность: Сон Адриана — ключевой текстологический элемент. Мертвецы, пришедшие к нему, — проекция его страха перед клиентами, которых он обманывал. Пробуждение героя («Какой вздор иногда приснится!») снимает напряжение, переводя повествование в комический регистр.
- Социальная критика: Конфликт гробовщика с соседями-ремесленниками (сапожник, кузнец) отражает сословные предрассудки. Смерть уравнивает всех, но при жизни общество делится на «тех, кто дерет, и тех, кто стрижет» (аллюзия на басню Крылова).
- Адриан Прохоров: «угрюмый мастеровой», чья мрачность контрастирует с комичностью ситуаций. Его практицизм («не даром же я их кормил?») подчеркивает абсурдность человеческой жадности.
- Мертвецы: Карикатурные «клиенты» (урядник, бригадир, купчиха) — пародия на социальные типажи. Их появление во сне — не мистика, а психологическая проекция вины.
- Соседи: Сапожник Шульц и другие — представители «маленьких людей», чьи споры о профессиях высмеивают мещанские ценности.
- Язык и стиль: Пушкин использует просторечия («Ай да свадьба!»), канцеляризмы («преставился»), иронические интонации. Диалоги наполнены живой речью, что создает эффект устного рассказа.
- Структура: Композиция кольцевая: от переезда в новый дом — через сон — к пробуждению. Финал («Адриан весело принялся за работу») подчеркивает тривиальность человеческих страхов.
- Рукописи: Черновики показывают, что изначально Пушкин планировал более мрачный финал, но смягчил его, добавив комический элемент.
- «Фауст» Гёте: Сцена пира мертвецов отсылает к Вальпургиевой ночи, но у Пушкина она лишена метафизики, становясь фарсом.
- Традиция «петербургских повестей»: Мотив сна предвосхищает Гоголя («Нос», «Портрет»).
- Библейские аллюзии: Фраза «Призови мертвецов своих» — пародия на пророка Иезекииля.
- В.Г. Белинский называл «Гробовщика» «мастерской шуткой», отмечая сочетание «страшного» и «смешного».
- Современные исследователи (Лотман, Эйхенбаум) видят в повести деконструкцию романтических мифов и начало социального реализма.
- Психоаналитическая интерпретация: сон Адриана — подсознательное раскаяние в обмане клиентов.
«Гробовщик» — этапное произведение в эволюции русской прозы. Пушкин, балансируя между иронией и философией, показывает, что даже в «низком» ремесле есть место универсальным истинам. История Адриана Прохорова — не только пародия на романтизм, но и глубокое размышление о природе страха, вины и человеческой суеты. Этот текст стал мостом между пушкинской поэзией и гоголевской прозой, предвосхитив тему «маленького человека» и абсурдизм XX века.