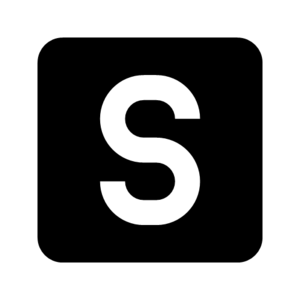Формы речи
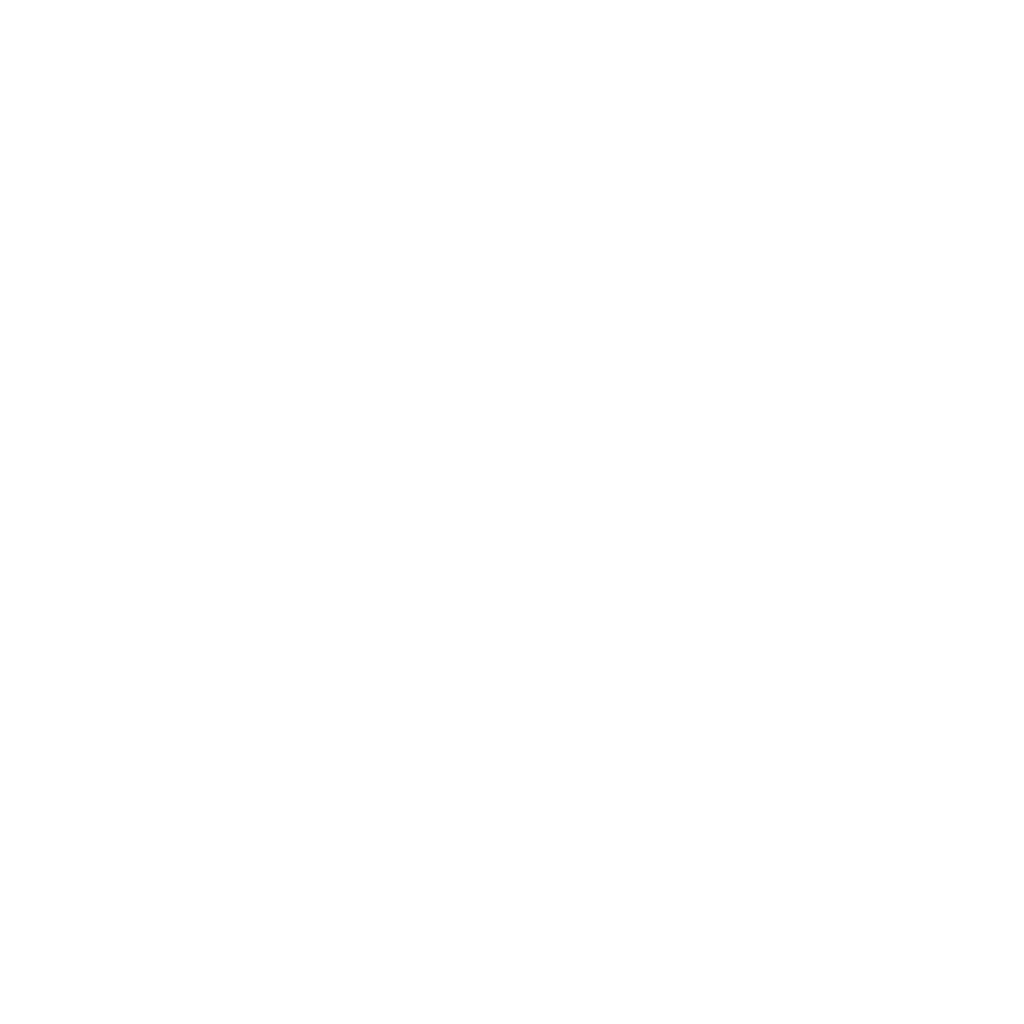
Изучаем монологи, внутренние монологи (как состояния между явью и сном), диалоги
Диалог, монолог, внутренняя речь, реплика - поясните эти термины, как вы их понимаете, в каких ситуациях встречали.

Внутренний монолог
Внутренний монолог относится к формам речи, является одним из выражений внутреннего конфликта и способом, помогающим оживить картину; он помогает автору вспомнить прошлое. Благодаря внутреннему монологу вспоминаются многие детали. Если речь идет о детстве, то через ощущения выстраивается дискурс, через него в памяти появляются детали, уже давно забытые. Внутренний монолог, таким образом, становится основным художественным приемом для создания «ощутимой реальности» в тех случаях, когда события произошли уже давно, и зрительные, слуховые детали практически полностью утрачены.
Рассмотрим первую главу повести «Детство» Л.Н.Толстого «Учитель Карл Иванович». Через внутренний монолог Толстой вспоминает детали, вызывающие особенное отвращение: халат, кисточку, сапоги домашнего учителя». Первое слово дороже второго – первые ощущения самые точные. Дальнейшая рефлексия о «милом добром» учителе опять сменяется на неприятие: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдет в грусть, и, Бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иваныч сердится за ошибки».
Досада явственно вырисовывается и превращается в идею, выливается в действие – Толстой основывает в Ясной Поляне школу, где не берет таких учителей как Карл Иванович, не любящих ни предмет, ни детей. Там никто не мучается от несвободы, наказаний – не важно, справедливы ли они были у Карла Ивановича, там с любого урока можно было просто уйти, если становилось скучно.
Саморефлексия помогает воспроизвести мысли и события через внутренние монологи. Вспоминая ощущения, автор придает себе прошлому мысли себя настоящего.
«Я не мог прийти в себя от мысли, что вместо ожидаемого рисунка при всех прочтут мои никуда не годные стихи и слова: как родную мать, которые ясно докажут, что я никогда не любил и забыл ее. Как передать мои страдания в то время, когда бабушка начала читать вслух мое стихотворение и когда, не разбирая, она останавливалась на середине стиха, чтобы с улыбкой, которая тогда мне казалась насмешливою, взглянуть на папа, когда она произносила не так, как мне хотелось, и когда, по слабости зрения, не дочтя до конца, она передала бумагу папа и попросила его прочесть ей все сначала? Мне казалось, что она это сделала потому, что ей надоело читать такие дурные и криво написанные стихи, и для того, чтобы папа мог сам прочесть последний стих, столь явно доказывающий мою бесчувственность. Я ожидал того, что он щелкнет меня по носу этими стихами и скажет: «Дрянной мальчишка, не забывай мать... вот тебе за это!» — но ничего такого не случилось; напротив, когда все было прочтено, бабушка сказала: «Charmant», и поцеловала меня в лоб». (Л.Толстой. Детство)
Лабиринты детства: Карл Иванович как Минотавр Николеньки
1. Учитель-чудовище: халат, кисточка, сапоги
В первой главе «Детства» Карл Иванович — не просто наставник, а персонификация детского «праужаса», воплощённого в бытовых деталях:
Толстой мастерски показывает, как сознание ребёнка блуждает между полюсами:
Школа Толстого — попытка переписать миф, уничтожив Минотавра-учителя:
Толстой-взрослый, как археолог, раскапывает лабиринт прошлого:
Даже создав утопию, Толстой не сбежал от Минотавра. В «Крейцеровой сонате» и «Смерти Ивана Ильича» взрослые герои — всё те же дети, блуждающие в коридорах:
Карл Иванович остаётся в лабиринте текста, как Минотавр в критских стенах. Но школа в Ясной Поляне — доказательство, что даже из самого запутанного детства можно вынести нить. Не для побега, а для строительства новых коридоров — где страх перед «кисточкой» превращается в свободу задавать вопросы без ответов.
Этот внутренний монолог – согласие рассказчика ребенка и рассказчика взрослого, Лев Толстой действительно в дальнейшей жизни никогда не грешил художественной правдой в угоду ритму или рифме.
В главе «Ивины» Николенька восхищается и безмерно любит Сергея Ивина, он обожествляет его, делает его своим идеалом и примером для подражания: «Все мечты мои, во сне и наяву, были о нем». Хотя Сергей больше любил общаться с Володей, Николенька слепо уважал его: «всем готов был для него пожертвовать». Николенька тихо любит своего приятеля, пытаясь стать таким, как его идеал. «У него была дурная привычка» - тогда маленький Коля не замечал в ней ничего плохого, он, наоборот, делал также: «останавливал глаза на одной точке и беспрестанно мигал». Взрослый рассказчик видел недостатки Сережи Ивина, он акцентирует внимание, что привычка плохая, но не осуждает себя маленького – все совершают ошибки и учатся впоследствии на них, так маленький Коля вскоре разочаровался в своем идеале. Высокомерие Сергея иногда грузило и раздражало Николеньку, но он все же продолжал его любить: «Не могу передать, как поразил и пленил меня этот геройский поступок».
Николенька старался подражать взрослым, поэтому скрывал свою привязанность к Сергею – взрослому Коле кажется это забавным. Рассказчик осуждает себя за неосмотрительность, за предвзятое отношение к Иленьке Грап, тихому и доброму мальчику: «он мне казался таким презренным существом». Жестокая шутка, казавшаяся маленькому Коле забавной и вовсе не обидной, является предметом осуждения рассказчика. Тогда маленький Коля не подошел и не помог, «не защитил и не утешил его». Мы видим, что взрослый Коля осуждает себя маленького за слепую любовь к жестокому человеку: «Они произвели единственные темные пятна на страницах моих детских воспоминаний».
Во внутреннем монологе взрослый Николенька Иртемьев ругает Николеньку-Иртемьева ребенка: «Я решительно не могу объяснить себе жестокости своего поступка. Как я не подошел к нему, не защитил и не утешил его? Куда девалось чувство сострадания, заставлявшее меня, бывало, плакать навзрыд при виде выброшенного из гнезда галчонка или щенка, которого несут, чтобы кинуть за забор, или курицы, которую несет поваренок для супа?» Внутренний монолог взрослого Николеньки Иртемьева перерастает в убеждение, что любовь может сыграть с человеком злую шутку, и потому у его героя-резонера Платона Каратаева не «Совет да любовь», а только «в совете жить», а погубленная Любовью Анна Каренина бросается под поезд.
Сергей Ивин как кривое зеркало Николеньки
1. Ивин — бог с дурными привычками: алтарь детского обожания
Сергей Ивин для Николеньки — не просто друг, а проекция идеального «Я», которое мальчик хочет создать:
Отношение к Иленьке — тень культа Ивина:
Рефлексия рассказчика — попытка разобрать храм ложного бога:
История с Ивиным — ключ к пониманию толстовской антропологии:
Сергей Ивин нужен Николеньке, как Тесею нужен Минотавр — чтобы, пройдя через лабиринт обожания и разочарования, найти выход к себе. Взрослый рассказчик не просто кается — он строит новую этику, где любовь к ближнему начинается с победы над внутренним идолом.
Все мы в детстве создаём кумиров из случайных людей, а потом годами разбираем эти алтари. Толстой показывает: каждая разбитая статуя приближает нас к настоящему Богу, который в нас самих.
Как вид внутреннего монолога обозначим разговор с собой в присутствии слушателя, мнение которого на этот монолог никак не повлияет. Поток речи Платона Каратаева. «…Как будто слова его всегда были готовы во рту его и нечаянно вылетали из него, он продолжал». Он тут же забывал свою речь и вряд ли сознавал, что говорит. «Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова».
В шестнадцатой главе в третьем томе «Войны и мира» Берг лжет, он говорит не своими словами, а речами своего генерала, Толстой осуждает Берга, что тот говорит не так, как сам думает. Берг покупает принадлежности для Веры, безделушки, в это время требуется разгружать подводы, захламленные бессмысленными подарками, дабы оставить их для раненых. И только Наташа смогла добиться правды, смогла помочь людям. Не закричав бы на мать и отца: «Это гадость! Это мерзость!», никто бы не тронулся с места на помощь раненым. Сам на войне Толстой встретился с ложью, где начальство говорит свою правду солдатам, и они более не видят истины, они слепо верят верхушке и повинуются их словам, мнениям, потому что мало что проговаривают внутри себя. Таким образом реализм – это нравственная честность прежде всего с самим собой, она проявляется во внутренним монологе как проверка внешнего внутренним.
Внутренний монолог является незаменяемым приемом, способным вернуться в прошлое и узнать истоки принципов человека. Внутренний монолог заставляет думать и вспоминать не только автора, но и читателя.
Неясность внутренней речи Раскольникова имеет другую природу: Достоевский создает видимость оборванных фраз, разрозненных ассоциаций. Его герой вроде бы как бредит, но можно по этим ассоциациям воссоздать строгий строй мыслей – золотодобыча? Да это же Катерина Ивановна черпает из сонечкиного золотого сердца пищу для своей гордыни.
В произведении Хемингуэя «Старик и море» три образа повествователя: один из них – рассказчик, его суждения касаются детальных подробностей, порой он доходит до занудства; второй – профессиональный рыбак, задача которого несмотря ни на что доставить рыбу до берега; третий – образ эмоционального рыбака, человека, которого одолевают чувства, не разум.
Нас интересуют образы стариков-рыбаков и их внутренние монологи. На самом деле, оба образа – это две крайности одного человека, старика, две стороны, которые борются друг с другом на протяжении всего плавания. Неудача и неулов расстраивают старика, преданного эмоциям и чувствам, его неуспех, длящийся месяцами, угнетает рыбака: «Я рыбачил в глубинных местах целую неделю и ничего не поймал», однако в этот восемьдесят пятый раз – юбилейную дату – он все также верит в благосклонность моря и его обитателей. Отсутствие улова, следовательно и денежных средств, не убивают профессионального рыбака, который понимает, что живет ради рыбалки и его призвание – долгие часы нахождение в открытом море: «Конечно, хорошо, когда человеку везет. Но я предпочитаю быть точным в моем деле. А когда счастье придет, я буду к нему готов». Этот человек – профессионал своего дела: «…его лески. У него они всегда уходили в воду прямее, чем у других рыбаков, и рыбу на разных глубинах ожидала в темноте приманка на том самом месте, которое он для нее определил», но и, как любое другое живое разумное существо, его одолевают чувства.
Рассуждения «рыбака-профессионала» лаконичны, кратки и сухи, в них нет чувств, для старика они служат толчком к действиям, к чистой голове, занятой лишь своим делом – процессом рыбалки: «Почуяла добычу. Не просто кружит», «Крупная золотая макрель». Мысли же эмоционального рыбака схожи с мыслями мечтателя-романтика, «этот рыбак» всячески отдается воспоминаниям и явно отвлекается от дела. Но нельзя сказать, что один из стариков лишний, это будет ложью: каждый из них помогает рыбаку. Да, «рыбак-профессионал» держит старика начеку, с трезвым умом, но «рыбак-мечтатель» помогает забыть боль, усталость и голод, он заменяет старику собеседника, ведь в море рядом с ним нет никого, одинокий старик среди открытого океана может довольствоваться лишь внутренней беседой, он позволяет старику на минуту окунуться в воспоминания, уйти от реальности и погрузиться в размышления, что служит для него некой перезагрузкой, выйти из которой помогает «рыбак-профессионал»: «Если бы кто-нибудь послушал, как я разговариваю сам с собой, он решил бы, что я спятил». Они подобны двум «спутникам» каждого человека на пути, где один вечно сомневается, а другой идет вперед, несмотря на преграды.
Внутренний монолог старика иногда находит компромисс, то есть две его стороны согласны: «Ешь, рыба. Ешь. Ну, ешь же, пожалуйста», «Поворотись еще разок. Понюхай…Не стесняйся, рыба. Ешь, прошу тебя». И «рыбак-профессионал», и «рыбак-мечтатель» соглашаются друг с другом, что был бы рядом его мальчик – была бы и помощь и поддержка, были бы отрада для души и необходимые руки и мысли еще одного рыбака: «Жаль, что со мной нет мальчика», «Эх, был бы со мной мальчик», эта фраза постоянно повторяется, мысль о мальчике-помощнике преследует старика в течение всего его путешествия, он не отказывается от нее ни на секунду, но «рыбак-профессионал» не оставляет старика под властью чувств надолго, он принуждает рыбака оказаться вновь здесь, в лодке, где его дальнейшая судьба зависит только от него самого: «Но мальчика с тобой нет», «Ты можешь рассчитывать только на себя». Но и конфликт являются частой составляющей внутреннего монолога старика, именно конфликт служит дальнейшему исходу событий, резкому изменению в повествовании, и здесь уже зависит, кто именно одержит победу «рыбак-профессионал» или «рыбак-мечтатель».
«Рыбак-профессионал» и «рыбак -мечтатель» подобны взрослому и ребенку, где младший всегда задает тысячу вопросов, на что старший вынужден отвечать: «Почему львы – это самое лучшее, что у меня осталось», тогда взрослый отвечает: «Не надо думать, старик, отдохни тихонько, прислонясь к доскам, и ни о чем не думай».
«Старик и море» относится к числу произведений реализма: мы видим развитие героя, его изменения через другие образы, с помощью образов стариков, герой раскрывается как личность.
Итак, три рассказчика ведут повествование о поимке огромной рыбы: 1.автор-рассказчик, 2. персонаж, чья внутренняя речь – речь профессионала-рыбака, 3 внутренний голос, эмоциональный, расслабляющий, тот, с кем спорит второй голос.
Задание 1. Прочитайте рассказ «Старик и море» Хемингуэя. Выпишите внутренние монологи, классифицируя их по голосам 2 и 3. Будут ли к ним относиться разговоры с рыбой? Как вы думаете?
Образец:
Я рыбачил в глубинных местах целую неделю и ничего не поймал, – подумал старик. –
Сегодня я попытаю счастья там, где ходят стаи бонито и альбакоре. Вдруг там плавает и большая рыба?»(2)
«Хотел бы я, чтобы она заснула, тогда и я смогу заснуть и увидеть во сне львов, – подумал он. – Почему львы – это самое лучшее, что у меня осталось?» (3)
– Не надо думать, старик, – сказал он себе. – Отдыхай тихонько, прислонясь к доскам, и ни о чем не думай. Она сейчас трудится. Ты же пока трудись как можно меньше (2).
Верно ли, что благодаря внутренним монологам рассказчиком может стать персонаж?
Задание 2. Охарактеризуйте внутренние монологи-реплики Чичикова. Как Гоголь играет антитезой мертвое-живое? Что придает живости мертвецам?
Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: «Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! что вы, сердечные мои, поделывали на веку своем? как перебивались?» И глаза его невольно остановились на одной фамилии, это был известный Петр Савельев Неуважай-корыто, принадлежавший когда-то помещице Коробочке. Он опять не утерпел, чтоб не сказать: «Эх какой длинный, во всю строку разъехался! Мастер ли ты был или просто мужик, и какою смертью тебя прибрало? в кабаке ли или середи дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз? Пробка Степан, плотник, трезвости примерной. А! вот он, Степан Пробка, вот тот богатырь, что в гвардию годился бы! Чай, все губернии исходил с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба да на два сушеной рыбы, а в мошне, чай, притаскивал всякой раз домой целковиков по сту, а может, и государственную зашивал в холстяные штаны или затыкал в сапог, — где тебя прибрало? Взмостился ли ты для большого прибытку под церковный купол, а может быть, и на крест потащился и, поскользнувшись оттуда с перекладины, шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: «Эх, Ваня, угораздило тебя!», а сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место».
Рассмотрим первую главу повести «Детство» Л.Н.Толстого «Учитель Карл Иванович». Через внутренний монолог Толстой вспоминает детали, вызывающие особенное отвращение: халат, кисточку, сапоги домашнего учителя». Первое слово дороже второго – первые ощущения самые точные. Дальнейшая рефлексия о «милом добром» учителе опять сменяется на неприятие: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдет в грусть, и, Бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иваныч сердится за ошибки».
Досада явственно вырисовывается и превращается в идею, выливается в действие – Толстой основывает в Ясной Поляне школу, где не берет таких учителей как Карл Иванович, не любящих ни предмет, ни детей. Там никто не мучается от несвободы, наказаний – не важно, справедливы ли они были у Карла Ивановича, там с любого урока можно было просто уйти, если становилось скучно.
Саморефлексия помогает воспроизвести мысли и события через внутренние монологи. Вспоминая ощущения, автор придает себе прошлому мысли себя настоящего.
«Я не мог прийти в себя от мысли, что вместо ожидаемого рисунка при всех прочтут мои никуда не годные стихи и слова: как родную мать, которые ясно докажут, что я никогда не любил и забыл ее. Как передать мои страдания в то время, когда бабушка начала читать вслух мое стихотворение и когда, не разбирая, она останавливалась на середине стиха, чтобы с улыбкой, которая тогда мне казалась насмешливою, взглянуть на папа, когда она произносила не так, как мне хотелось, и когда, по слабости зрения, не дочтя до конца, она передала бумагу папа и попросила его прочесть ей все сначала? Мне казалось, что она это сделала потому, что ей надоело читать такие дурные и криво написанные стихи, и для того, чтобы папа мог сам прочесть последний стих, столь явно доказывающий мою бесчувственность. Я ожидал того, что он щелкнет меня по носу этими стихами и скажет: «Дрянной мальчишка, не забывай мать... вот тебе за это!» — но ничего такого не случилось; напротив, когда все было прочтено, бабушка сказала: «Charmant», и поцеловала меня в лоб». (Л.Толстой. Детство)
Лабиринты детства: Карл Иванович как Минотавр Николеньки
1. Учитель-чудовище: халат, кисточка, сапоги
В первой главе «Детства» Карл Иванович — не просто наставник, а персонификация детского «праужаса», воплощённого в бытовых деталях:
- Халат с кисточкой — словно шкура Минотавра, отталкивающая и одновременно гипнотизирующая. Для Николеньки это символ несвободы: «Когда же я буду большой… всегда буду сидеть… с теми, кого люблю?».
- Сапоги учителя — «копыта» лабиринта. Их скрип маркирует границы мира, где ребёнок — пленник расписания и диалогов из учебника.
- Кисточка в руках Карла Ивановича — жезл Минотавра, которым он «рисует» правила, как нить Ариадны, но для Николеньки это плеть, загоняющая в угол.
Толстой мастерски показывает, как сознание ребёнка блуждает между полюсами:
- Ненависть: «Мне гадок был… картуз с кисточкой» — это ярость Тесея, видящего чудовище.
- Жалость: «Бедный, бедный старик! Нас много, он один…» — прозрение, что Минотавр тоже жертва лабиринта (системы воспитания).
- Двойственность как основа лабиринта: Карл Иванович и мучитель, и «милый добрый» человек. Николенька, как Тесей, не может убить его — лишь бежит мыслями к окну, где «мухи жужжат в солнечном пятне».
Школа Толстого — попытка переписать миф, уничтожив Минотавра-учителя:
- Отмена наказаний = разрушение стен лабиринта. Дети свободны уйти с урока, как Николенька мечтал сбежать от «диалогов».
- Учителя-ариадны: Не надзиратели, а проводники, которые любят предмет. Контраст с Карлом Ивановичем, чья «голова была занята только шитьём».
- Сон наяву: В Ясной Поляне осуществилось детское «Бог знает отчего и о чём» — мир, где мысли не прерываются окриком, а летят, как те мухи у окна.
Толстой-взрослый, как археолог, раскапывает лабиринт прошлого:
- Внутренний монолог — карта, где каждая эмоция помечена: «первое слово дороже второго». Детское отвращение к халату точнее взрослых оправданий.
- Переписывание прошлого: Вспоминая жалость к Карлу Ивановичу, автор «приручает» Минотавра. Учитель становится не чудовищем, а жертвой общего лабиринта — сословного воспитания.
- Парадокс памяти: Чем ярче Толстой воссоздаёт «леденящее бормотание» детской досады, тем сильнее его школа отрицает эту реальность. Ясная Поляна — антилабиринт, где нет места ни Карлам Ивановичам, ни Николенькам.
Даже создав утопию, Толстой не сбежал от Минотавра. В «Крейцеровой сонате» и «Смерти Ивана Ильича» взрослые герои — всё те же дети, блуждающие в коридорах:
- Иван Ильич — Николенька, который так и не вырос: его «урок» — смерть, а «Карл Иванович» — собственная беспомощность.
- Поздние дневники Толстого — монологи у окна, где снова жужжат мухи, но уже не спасают.
Карл Иванович остаётся в лабиринте текста, как Минотавр в критских стенах. Но школа в Ясной Поляне — доказательство, что даже из самого запутанного детства можно вынести нить. Не для побега, а для строительства новых коридоров — где страх перед «кисточкой» превращается в свободу задавать вопросы без ответов.
Этот внутренний монолог – согласие рассказчика ребенка и рассказчика взрослого, Лев Толстой действительно в дальнейшей жизни никогда не грешил художественной правдой в угоду ритму или рифме.
В главе «Ивины» Николенька восхищается и безмерно любит Сергея Ивина, он обожествляет его, делает его своим идеалом и примером для подражания: «Все мечты мои, во сне и наяву, были о нем». Хотя Сергей больше любил общаться с Володей, Николенька слепо уважал его: «всем готов был для него пожертвовать». Николенька тихо любит своего приятеля, пытаясь стать таким, как его идеал. «У него была дурная привычка» - тогда маленький Коля не замечал в ней ничего плохого, он, наоборот, делал также: «останавливал глаза на одной точке и беспрестанно мигал». Взрослый рассказчик видел недостатки Сережи Ивина, он акцентирует внимание, что привычка плохая, но не осуждает себя маленького – все совершают ошибки и учатся впоследствии на них, так маленький Коля вскоре разочаровался в своем идеале. Высокомерие Сергея иногда грузило и раздражало Николеньку, но он все же продолжал его любить: «Не могу передать, как поразил и пленил меня этот геройский поступок».
Николенька старался подражать взрослым, поэтому скрывал свою привязанность к Сергею – взрослому Коле кажется это забавным. Рассказчик осуждает себя за неосмотрительность, за предвзятое отношение к Иленьке Грап, тихому и доброму мальчику: «он мне казался таким презренным существом». Жестокая шутка, казавшаяся маленькому Коле забавной и вовсе не обидной, является предметом осуждения рассказчика. Тогда маленький Коля не подошел и не помог, «не защитил и не утешил его». Мы видим, что взрослый Коля осуждает себя маленького за слепую любовь к жестокому человеку: «Они произвели единственные темные пятна на страницах моих детских воспоминаний».
Во внутреннем монологе взрослый Николенька Иртемьев ругает Николеньку-Иртемьева ребенка: «Я решительно не могу объяснить себе жестокости своего поступка. Как я не подошел к нему, не защитил и не утешил его? Куда девалось чувство сострадания, заставлявшее меня, бывало, плакать навзрыд при виде выброшенного из гнезда галчонка или щенка, которого несут, чтобы кинуть за забор, или курицы, которую несет поваренок для супа?» Внутренний монолог взрослого Николеньки Иртемьева перерастает в убеждение, что любовь может сыграть с человеком злую шутку, и потому у его героя-резонера Платона Каратаева не «Совет да любовь», а только «в совете жить», а погубленная Любовью Анна Каренина бросается под поезд.
Сергей Ивин как кривое зеркало Николеньки
1. Ивин — бог с дурными привычками: алтарь детского обожания
Сергей Ивин для Николеньки — не просто друг, а проекция идеального «Я», которое мальчик хочет создать:
- Обожествление через мимикрию: Подражание миганию («останавливал глаза на одной точке») — ритуал поклонения, попытка «слиться» с кумиром. Как язычник копирует жесты идола, чтобы перенять его силу.
- Жертвенность как культ: «всем готов был для него пожертвовать» — слепая вера, где Ивин заменяет и Бога, и отца. Николенька видит в нём аристократического Христа, чьи «геройские поступки» (вроде прыжка через канаву) — чудеса новой религии.
- Слепота избранничества: Даже высокомерие Ивина кажется Николеньке «благородной гордостью». Как средневековые монахи, оправдывающие грехи святых, он превозносит недостатки: дурная привычка → «особая метка избранности».
Отношение к Иленьке — тень культа Ивина:
- Ритуальное унижение: Травля Грапа — пародия на «геройство» Сергея. Если Ивин побеждает воображаемых врагов, то Иленька — козёл отпущения, на котором испытывают силу.
- Предательство себя: Николенька, подражая Ивину, предаёт собственное сострадание («плакал навзрыд при виде выброшенного галчонка»). Это жертвоприношение: убивает часть души ради принадлежности к «кругу избранных».
- Тёмные пятна памяти — не раскаяние, а следы инициации. Как шрамы от бича в тайных культах, они напоминают: чтобы стать «мужчиной», надо пройти через жестокость.
Рефлексия рассказчика — попытка разобрать храм ложного бога:
- Суд над собой: «Куда девалось чувство сострадания?» — вопрос не к Богу, а к тому мальчику, который променял доброту на милость кумира. Это процесс над собственной наивностью.
- Разоблачение идола: Осознание, что Ивин был «жестоким человеком» — крах всей детской мифологии. Сергей оказывается не богом, а глиняным идолом с трещиной.
- Парадокс памяти: Взрослый осуждает ребёнка, но оправдывает механизмы выживания. «Все совершают ошибки» — это не прощение, а признание: лабиринт взросления требует жертв, даже невинных.
История с Ивиным — ключ к пониманию толстовской антропологии:
- Слепота как этап: Детская любовь — тренировка души, даже если объект недостоин. Как младенец учится ходить через падения, так Николенька учится любить через ошибки.
- Предательство как урок: Измена себе («не защитил и не утешил») становится первой трещиной в эгоцентризме. Только предав Иленьку, Николенька начинает видеть других.
- Боль как компас: «Тёмные пятна» памяти — не стыд, а точки роста. Они как узлы на дереве: отметины, без которых ствол не стал бы прочнее.
Сергей Ивин нужен Николеньке, как Тесею нужен Минотавр — чтобы, пройдя через лабиринт обожания и разочарования, найти выход к себе. Взрослый рассказчик не просто кается — он строит новую этику, где любовь к ближнему начинается с победы над внутренним идолом.
Все мы в детстве создаём кумиров из случайных людей, а потом годами разбираем эти алтари. Толстой показывает: каждая разбитая статуя приближает нас к настоящему Богу, который в нас самих.
Как вид внутреннего монолога обозначим разговор с собой в присутствии слушателя, мнение которого на этот монолог никак не повлияет. Поток речи Платона Каратаева. «…Как будто слова его всегда были готовы во рту его и нечаянно вылетали из него, он продолжал». Он тут же забывал свою речь и вряд ли сознавал, что говорит. «Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова».
В шестнадцатой главе в третьем томе «Войны и мира» Берг лжет, он говорит не своими словами, а речами своего генерала, Толстой осуждает Берга, что тот говорит не так, как сам думает. Берг покупает принадлежности для Веры, безделушки, в это время требуется разгружать подводы, захламленные бессмысленными подарками, дабы оставить их для раненых. И только Наташа смогла добиться правды, смогла помочь людям. Не закричав бы на мать и отца: «Это гадость! Это мерзость!», никто бы не тронулся с места на помощь раненым. Сам на войне Толстой встретился с ложью, где начальство говорит свою правду солдатам, и они более не видят истины, они слепо верят верхушке и повинуются их словам, мнениям, потому что мало что проговаривают внутри себя. Таким образом реализм – это нравственная честность прежде всего с самим собой, она проявляется во внутренним монологе как проверка внешнего внутренним.
Внутренний монолог является незаменяемым приемом, способным вернуться в прошлое и узнать истоки принципов человека. Внутренний монолог заставляет думать и вспоминать не только автора, но и читателя.
Неясность внутренней речи Раскольникова имеет другую природу: Достоевский создает видимость оборванных фраз, разрозненных ассоциаций. Его герой вроде бы как бредит, но можно по этим ассоциациям воссоздать строгий строй мыслей – золотодобыча? Да это же Катерина Ивановна черпает из сонечкиного золотого сердца пищу для своей гордыни.
В произведении Хемингуэя «Старик и море» три образа повествователя: один из них – рассказчик, его суждения касаются детальных подробностей, порой он доходит до занудства; второй – профессиональный рыбак, задача которого несмотря ни на что доставить рыбу до берега; третий – образ эмоционального рыбака, человека, которого одолевают чувства, не разум.
Нас интересуют образы стариков-рыбаков и их внутренние монологи. На самом деле, оба образа – это две крайности одного человека, старика, две стороны, которые борются друг с другом на протяжении всего плавания. Неудача и неулов расстраивают старика, преданного эмоциям и чувствам, его неуспех, длящийся месяцами, угнетает рыбака: «Я рыбачил в глубинных местах целую неделю и ничего не поймал», однако в этот восемьдесят пятый раз – юбилейную дату – он все также верит в благосклонность моря и его обитателей. Отсутствие улова, следовательно и денежных средств, не убивают профессионального рыбака, который понимает, что живет ради рыбалки и его призвание – долгие часы нахождение в открытом море: «Конечно, хорошо, когда человеку везет. Но я предпочитаю быть точным в моем деле. А когда счастье придет, я буду к нему готов». Этот человек – профессионал своего дела: «…его лески. У него они всегда уходили в воду прямее, чем у других рыбаков, и рыбу на разных глубинах ожидала в темноте приманка на том самом месте, которое он для нее определил», но и, как любое другое живое разумное существо, его одолевают чувства.
Рассуждения «рыбака-профессионала» лаконичны, кратки и сухи, в них нет чувств, для старика они служат толчком к действиям, к чистой голове, занятой лишь своим делом – процессом рыбалки: «Почуяла добычу. Не просто кружит», «Крупная золотая макрель». Мысли же эмоционального рыбака схожи с мыслями мечтателя-романтика, «этот рыбак» всячески отдается воспоминаниям и явно отвлекается от дела. Но нельзя сказать, что один из стариков лишний, это будет ложью: каждый из них помогает рыбаку. Да, «рыбак-профессионал» держит старика начеку, с трезвым умом, но «рыбак-мечтатель» помогает забыть боль, усталость и голод, он заменяет старику собеседника, ведь в море рядом с ним нет никого, одинокий старик среди открытого океана может довольствоваться лишь внутренней беседой, он позволяет старику на минуту окунуться в воспоминания, уйти от реальности и погрузиться в размышления, что служит для него некой перезагрузкой, выйти из которой помогает «рыбак-профессионал»: «Если бы кто-нибудь послушал, как я разговариваю сам с собой, он решил бы, что я спятил». Они подобны двум «спутникам» каждого человека на пути, где один вечно сомневается, а другой идет вперед, несмотря на преграды.
Внутренний монолог старика иногда находит компромисс, то есть две его стороны согласны: «Ешь, рыба. Ешь. Ну, ешь же, пожалуйста», «Поворотись еще разок. Понюхай…Не стесняйся, рыба. Ешь, прошу тебя». И «рыбак-профессионал», и «рыбак-мечтатель» соглашаются друг с другом, что был бы рядом его мальчик – была бы и помощь и поддержка, были бы отрада для души и необходимые руки и мысли еще одного рыбака: «Жаль, что со мной нет мальчика», «Эх, был бы со мной мальчик», эта фраза постоянно повторяется, мысль о мальчике-помощнике преследует старика в течение всего его путешествия, он не отказывается от нее ни на секунду, но «рыбак-профессионал» не оставляет старика под властью чувств надолго, он принуждает рыбака оказаться вновь здесь, в лодке, где его дальнейшая судьба зависит только от него самого: «Но мальчика с тобой нет», «Ты можешь рассчитывать только на себя». Но и конфликт являются частой составляющей внутреннего монолога старика, именно конфликт служит дальнейшему исходу событий, резкому изменению в повествовании, и здесь уже зависит, кто именно одержит победу «рыбак-профессионал» или «рыбак-мечтатель».
«Рыбак-профессионал» и «рыбак -мечтатель» подобны взрослому и ребенку, где младший всегда задает тысячу вопросов, на что старший вынужден отвечать: «Почему львы – это самое лучшее, что у меня осталось», тогда взрослый отвечает: «Не надо думать, старик, отдохни тихонько, прислонясь к доскам, и ни о чем не думай».
«Старик и море» относится к числу произведений реализма: мы видим развитие героя, его изменения через другие образы, с помощью образов стариков, герой раскрывается как личность.
Итак, три рассказчика ведут повествование о поимке огромной рыбы: 1.автор-рассказчик, 2. персонаж, чья внутренняя речь – речь профессионала-рыбака, 3 внутренний голос, эмоциональный, расслабляющий, тот, с кем спорит второй голос.
Задание 1. Прочитайте рассказ «Старик и море» Хемингуэя. Выпишите внутренние монологи, классифицируя их по голосам 2 и 3. Будут ли к ним относиться разговоры с рыбой? Как вы думаете?
Образец:
Я рыбачил в глубинных местах целую неделю и ничего не поймал, – подумал старик. –
Сегодня я попытаю счастья там, где ходят стаи бонито и альбакоре. Вдруг там плавает и большая рыба?»(2)
«Хотел бы я, чтобы она заснула, тогда и я смогу заснуть и увидеть во сне львов, – подумал он. – Почему львы – это самое лучшее, что у меня осталось?» (3)
– Не надо думать, старик, – сказал он себе. – Отдыхай тихонько, прислонясь к доскам, и ни о чем не думай. Она сейчас трудится. Ты же пока трудись как можно меньше (2).
Верно ли, что благодаря внутренним монологам рассказчиком может стать персонаж?
Задание 2. Охарактеризуйте внутренние монологи-реплики Чичикова. Как Гоголь играет антитезой мертвое-живое? Что придает живости мертвецам?
Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: «Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! что вы, сердечные мои, поделывали на веку своем? как перебивались?» И глаза его невольно остановились на одной фамилии, это был известный Петр Савельев Неуважай-корыто, принадлежавший когда-то помещице Коробочке. Он опять не утерпел, чтоб не сказать: «Эх какой длинный, во всю строку разъехался! Мастер ли ты был или просто мужик, и какою смертью тебя прибрало? в кабаке ли или середи дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз? Пробка Степан, плотник, трезвости примерной. А! вот он, Степан Пробка, вот тот богатырь, что в гвардию годился бы! Чай, все губернии исходил с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба да на два сушеной рыбы, а в мошне, чай, притаскивал всякой раз домой целковиков по сту, а может, и государственную зашивал в холстяные штаны или затыкал в сапог, — где тебя прибрало? Взмостился ли ты для большого прибытку под церковный купол, а может быть, и на крест потащился и, поскользнувшись оттуда с перекладины, шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: «Эх, Ваня, угораздило тебя!», а сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место».
В отрывке из «Войны и мира» Л. Н. Толстой изображает внутренний монолог Наполеона на Поклонной горе — момент, когда император, уверенный в своём триумфе, мечтает о покорении Москвы и личной победе над Александром I. Через поток его мыслей автор раскрывает парадокс: стремление покорить мир оборачивается поражением в битве с самим собой. Наполеон одержим идеей личного величия, видит историю как сцену для собственной славы, а Москву — как декорацию своего триумфа. Его «великодушие» показно и расчётливо: он заранее репетирует речь к боярам, продумывает жесты милости, подменяя реальность фантазией. Он мифологизирует момент, превращая историческое событие в личный спектакль, и сужает масштаб войны до эгоцентричной драмы — «личной борьбы с Александром». Его заготовленные фразы о справедливости и милосердии лишены содержания: это форма без нравственной основы. Таким образом, Наполеон не побеждает себя — он поддаётся тщеславию, самовнушению и вере в собственную непогрешимость, что и становится его главным поражением.
Толстой систематически развенчивает «великие жесты» Наполеона, показывая, что его великодушие — лишь игра на публику, а планы благотворительности смешны в контексте войны и разорения. Ожидание депутации бояр становится символом разрыва между воображаемым и реальным: Наполеон ждёт покорности, а получает молчание города. Повторение фразы «Но неужели это правда, что я в Москве?» подчёркивает его неуверенность и потребность убеждать самого себя — признак внутреннего разлада. Поклонная гора оказывается точкой наивысшего взлёта и начала падения: здесь Наполеон верит, что держит судьбу города в руках, но именно здесь обнажается его внутренняя слабость. В толстовской системе ценностей истинная победа — не в покорении городов, а в трезвом взгляде на себя и мир, отказе от самообмана и способности действовать по совести. Наполеон же демонстрирует обратную модель: чем больше он мечтает о величии, тем сильнее теряет связь с реальностью. Его попытка «победить мир» строится на иллюзии, а не на нравственной силе, и потому его «победа» над Москвой оборачивается моральной пустотой и грядущим крахом. Так отрывок иллюстрирует смысл максимы «Если хочешь победить весь мир, победи себя» отрицательным примером: без победы над собой (над гордыней, самообманом, жаждой славы) любая внешняя победа оказывается призрачной.
Толстой систематически развенчивает «великие жесты» Наполеона, показывая, что его великодушие — лишь игра на публику, а планы благотворительности смешны в контексте войны и разорения. Ожидание депутации бояр становится символом разрыва между воображаемым и реальным: Наполеон ждёт покорности, а получает молчание города. Повторение фразы «Но неужели это правда, что я в Москве?» подчёркивает его неуверенность и потребность убеждать самого себя — признак внутреннего разлада. Поклонная гора оказывается точкой наивысшего взлёта и начала падения: здесь Наполеон верит, что держит судьбу города в руках, но именно здесь обнажается его внутренняя слабость. В толстовской системе ценностей истинная победа — не в покорении городов, а в трезвом взгляде на себя и мир, отказе от самообмана и способности действовать по совести. Наполеон же демонстрирует обратную модель: чем больше он мечтает о величии, тем сильнее теряет связь с реальностью. Его попытка «победить мир» строится на иллюзии, а не на нравственной силе, и потому его «победа» над Москвой оборачивается моральной пустотой и грядущим крахом. Так отрывок иллюстрирует смысл максимы «Если хочешь победить весь мир, победи себя» отрицательным примером: без победы над собой (над гордыней, самообманом, жаждой славы) любая внешняя победа оказывается призрачной.
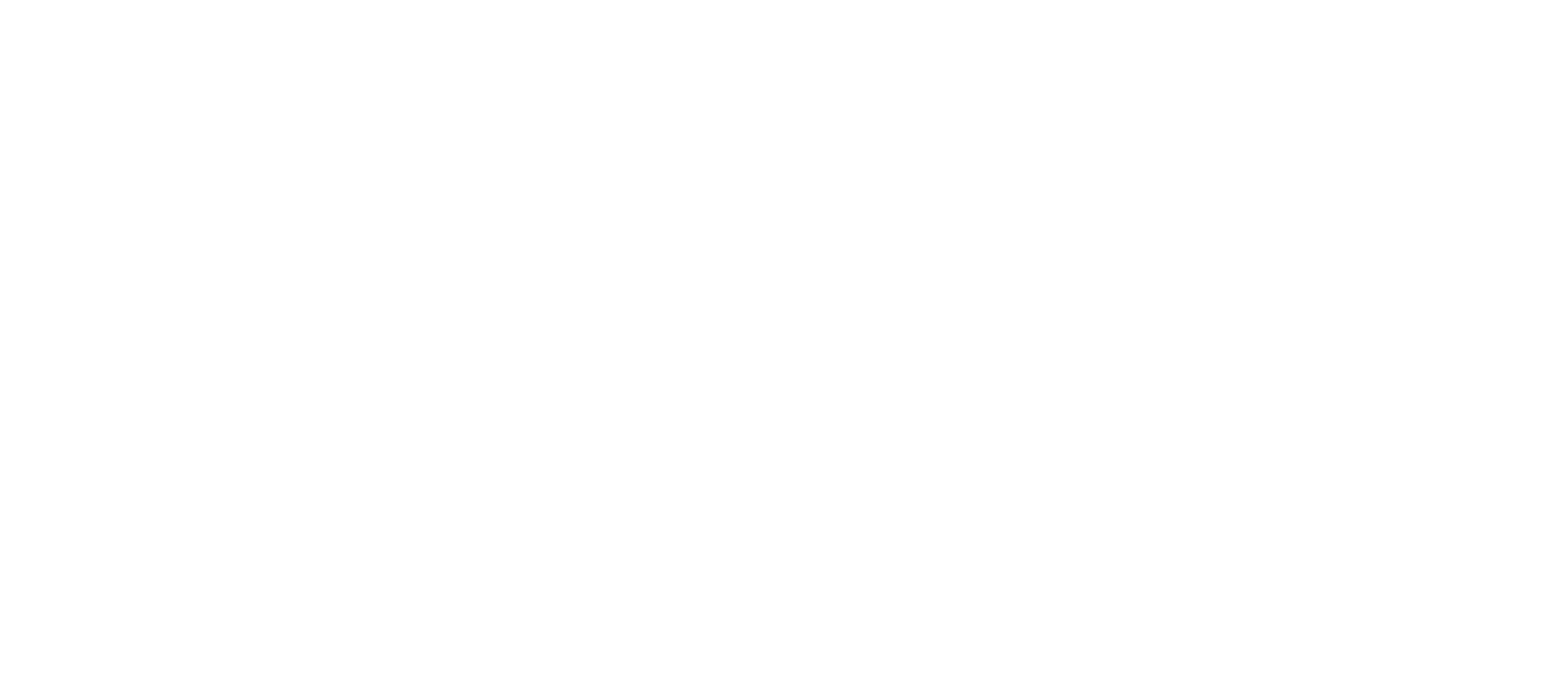
Прочитайте отрывок романа А.Бек "Волоколамское шоссе". В чем стилистические особенности внутреннего монолога командира? В чем отличие предполагаемой во внутреннем монологе ситуации от реальной ситуации расстрела? Какова роль данного приема в выполнении главной задачи автора: не соврать ни в чем?
Пропишите внутренние монологи к легенде о Томасе Лермонте":
- испытание красотой
- испытание любовью к своему дому
- испытание верностью
- испытание тремя путями
- испытание страхом
- молчание
- не думать о награде
Внутренний монолог может стать внутренним диалогом.
Граф Альтамира рассказывал мне, что Дантон накануне смерти говорил
своим громовым голосом: "Какая странность, ведь глагол "гильотинировать"
нельзя спрягать во всех временах! Можно сказать: я буду гильотинирован, ты
будешь гильотинирован, но не говорят: я был гильотинирован".
"А почему бы и нет, - продолжал Жюльен, - если существует загробная
жизнь?.. Сказать по правде, если я там встречусь с христианским богом, я
пропал, - это деспот, и, как всякий деспот, он весь поглощен мыслями о
мщении. Библия только и повествует, что о всяких чудовищных карах. Я никогда
не любил его и даже ни" когда не допускал мысли, что его можно искренне
любить. Он безжалостен (Жюльен припомнил некоторые цитаты из Библии). Он
расправится со мной самым ужасающим образом...
Но если меня встретит там бог Фенелона! Быть может, он скажет мне: тебе
многое простится, потому что ты много любил...
А любил ли я много? Ах, я любил госпожу де Реналь, но я поступал
чудовищно. И здесь, как и во всем прочем, я пренебрег качествами простыми и
скромными ради какого-то блеска...
Да, "о какая будущность открывалась передо мной!.. Гусарский полковник,
если бы началась война, а в мирное время - секретарь посольства, затем
посол... потому что я бы, конечно, быстро освоился в этих делах... Да будь я
даже сущим болваном, разве зять маркиза де Ла-Моля может опасаться
какого-либо соперничества? Все мои дурачества простились бы мне или даже
были бы поставлены мне в заслугу. И вот я - заслуженная персона и
наслаждаюсь роскошной жизнью где-нибудь в Вене или Лондоне...
Изволите ошибаться, сударь, через три дня вам отрубят голову".
Жюльен от души расхохотался над этим неожиданным выпадом своего
здравомыслия. "Вот уж поистине в человеке уживаются два существа, - подумал
он, - Откуда оно, черт возьми, вылезло, это ехидное замечаньице?"
"Да, верно, дружище, через три дня тебе отрубят голову, - ответил он
своему несговорчивому собеседнику. - Господин де Шолен, чтобы поглазеть,
снимет окошко пополам с аббатом Малоном. А вот когда им придется платить за
это окошко, интересно, кто кого обворует из этих двух достойных особ?"
Внезапно ему пришли на ум строки из "Вячеслава" Ротру:
Владислав:
...Душа моя готова.
Король (отец Владислава):
И плаха также. Неси главу свою.
"Прекрасный ответ!" - подумал он и уснул.
Стендаль. Красное и черное
своим громовым голосом: "Какая странность, ведь глагол "гильотинировать"
нельзя спрягать во всех временах! Можно сказать: я буду гильотинирован, ты
будешь гильотинирован, но не говорят: я был гильотинирован".
"А почему бы и нет, - продолжал Жюльен, - если существует загробная
жизнь?.. Сказать по правде, если я там встречусь с христианским богом, я
пропал, - это деспот, и, как всякий деспот, он весь поглощен мыслями о
мщении. Библия только и повествует, что о всяких чудовищных карах. Я никогда
не любил его и даже ни" когда не допускал мысли, что его можно искренне
любить. Он безжалостен (Жюльен припомнил некоторые цитаты из Библии). Он
расправится со мной самым ужасающим образом...
Но если меня встретит там бог Фенелона! Быть может, он скажет мне: тебе
многое простится, потому что ты много любил...
А любил ли я много? Ах, я любил госпожу де Реналь, но я поступал
чудовищно. И здесь, как и во всем прочем, я пренебрег качествами простыми и
скромными ради какого-то блеска...
Да, "о какая будущность открывалась передо мной!.. Гусарский полковник,
если бы началась война, а в мирное время - секретарь посольства, затем
посол... потому что я бы, конечно, быстро освоился в этих делах... Да будь я
даже сущим болваном, разве зять маркиза де Ла-Моля может опасаться
какого-либо соперничества? Все мои дурачества простились бы мне или даже
были бы поставлены мне в заслугу. И вот я - заслуженная персона и
наслаждаюсь роскошной жизнью где-нибудь в Вене или Лондоне...
Изволите ошибаться, сударь, через три дня вам отрубят голову".
Жюльен от души расхохотался над этим неожиданным выпадом своего
здравомыслия. "Вот уж поистине в человеке уживаются два существа, - подумал
он, - Откуда оно, черт возьми, вылезло, это ехидное замечаньице?"
"Да, верно, дружище, через три дня тебе отрубят голову, - ответил он
своему несговорчивому собеседнику. - Господин де Шолен, чтобы поглазеть,
снимет окошко пополам с аббатом Малоном. А вот когда им придется платить за
это окошко, интересно, кто кого обворует из этих двух достойных особ?"
Внезапно ему пришли на ум строки из "Вячеслава" Ротру:
Владислав:
...Душа моя готова.
Король (отец Владислава):
И плаха также. Неси главу свою.
"Прекрасный ответ!" - подумал он и уснул.
Стендаль. Красное и черное
Особенность внутреннего монолога - наличие фантастических образов, сравнений и метафор, видение мира живым и прекрасным. Толстой описывает чувства и переживания Пети Ростова очень подробно и глубоко, что позволяет читателю видеть в персонаже альтер эго самого писателя.
Петя должен бы был знать, что он в лесу, в партии Денисова, в версте от дороги, что он сидит на фуре, отбитой у французов, около которой привязаны лошади, что под ним сидит казак Лихачев и натачивает ему саблю, что большое черное пятно направо — караулка, и красное пятно внизу налево — догоравший костер, что человек, приходивший за чашкой, — гусар, который хотел пить; но он ничего не знал и не хотел знать этого. Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было похожего на действительность. Большое черное пятно, может быть, точно была караулка, а может быть, была пещера, которая вела в самую глубь земли. Красное пятно, может быть, был огонь, а может быть — глаз огромного чудовища. Может быть, он точно сидит теперь на фуре, а очень может быть, что он сидит не на фуре, а на страшно высокой башне, с которой ежели упасть, то лететь бы до земли целый день, целый месяц — все лететь и никогда не долетишь. Может быть, что под фурой сидит просто казак Лихачев, а очень может быть, что это — самый добрый, храбрый, самый чудесный, самый превосходный человек на свете, которого никто не знает. Может быть, это точно проходил гусар за водой и пошел в лощину, а может быть, он только что исчез из виду и совсем исчез, и его не было.
(Л.Толстой. Война и мир)
(Л.Толстой. Война и мир)
Петя Ростов: на грани сна и смерти. Детское восприятие как предчувствие трагедии, внутренний монолог как прощание с миром.
1. Полуявь-полусон: волшебный щит против реальности
Петя в лесу с партией Денисова — ребёнок, играющий в войну, пока война не начинает играть им. Его сознание создаёт «волшебное царство» не из наивности, а как защитный механизм:
Чёрное пятно (караулка/пещера) — символ подсознательного страха. Пещера ведёт в «глубины земли» — намёк на могилу, которую Петя не видит, но чувствует.
Красное пятно (костёр/глаз чудовища) — двойственность огня: тепло жизни и взгляд смерти. Как в сказках, чудовище рядом, но герой ещё верит, что победит.
Фура/башня — метафора детской веры в бесконечность времени («лететь целый месяц и не долететь»). Петя замер на пороге между игрой («башня») и реальностью («фура с трофейными лошадьми»).
2. Казак Лихачев: последний друг детства
Даже в военном лагере Петя ищет отца-защитника, проецируя на казака черты сказочного спасителя:
«Самый добрый, храбрый человек на свете» — намёк на былинных богатырей. Лихачев точит саблю, как волшебный меч, но читатель уже знает: это орудие не спасёт.
Натачивание сабли — гипнотический ритуал, усыпляющий Петю. Звук стали о камень — колыбельная перед последним сном.
3. Гусар, который «исчез и его не было»: метафора ускользающей жизни
Эпизод с исчезающим гусаром — предвестие собственной судьбы Пети:
«Прошёл за водой и пропал» — намёк на мифологический сюжет о юноше, ушедшем к ручью и попавшем в царство мёртвых (ср. Нарцисс).
Поток сознания через повторы «может быть» имитирует детскую попытку ухватиться за реальность. Но чем больше вариантов, тем явственнее пустота — как в «Чёрном квадрате» Малевича, чёрное пятно поглощает все «может быть».
4. Стилистика перехода: от сказки к пуле
Толстой использует приёмы, стирающие грань между сном и ясностью:
Антитезы: «фура — башня», «казак — герой», «костёр — глаз». Это не контраст, а двойная экспозиция — как на старых фото, где лицо живого наложено на фон будущей могилы.
Риторические вопросы («Может быть, он точно сидит на фуре?») — не сомнение, а знание автора. Читатель кричит: «Очнись, Петя!», но мальчик уже в ином измерении.
Повторы как заклинание: словно ребёнок, который, закрыв глаза, шепчет «это сон», пытаясь отменить реальность.
5. Смерть как продолжение сна
Гибель Пети — логичное завершение его «волшебного царства»:
Не услышал выстрела — потому что верил в бессмертие, дарованное сказкой. Пуля стала частью сна, где «падаешь, но не долетаешь».
«Он споткнулся, и кровь залила его белый лицо» — единственное «красное пятно», которое не превратилось в костёр. Глаз чудовища наконец открылся.
Невинность как приговор, обнажается во внутреннем монологе
Петя Ростов — жертва не войны, а взросления. Его детское восприятие, столь похожее на мир Николеньки («тёмные пятна» памяти) или Пети из вашего анализа, оказывается смертельно опасным. Толстой показывает: на войне гибнут не те, кто боится, а те, кто до конца остаётся ребёнком — с «добрым казаком» в сердце и верой в бесконечное падение.
Все это раскрывает главную трагедию: дети 1812 года погибали, так и не проснувшись. Их последней мыслью была не боль, а удивление: «Неужели это не сон?»
1. Полуявь-полусон: волшебный щит против реальности
Петя в лесу с партией Денисова — ребёнок, играющий в войну, пока война не начинает играть им. Его сознание создаёт «волшебное царство» не из наивности, а как защитный механизм:
Чёрное пятно (караулка/пещера) — символ подсознательного страха. Пещера ведёт в «глубины земли» — намёк на могилу, которую Петя не видит, но чувствует.
Красное пятно (костёр/глаз чудовища) — двойственность огня: тепло жизни и взгляд смерти. Как в сказках, чудовище рядом, но герой ещё верит, что победит.
Фура/башня — метафора детской веры в бесконечность времени («лететь целый месяц и не долететь»). Петя замер на пороге между игрой («башня») и реальностью («фура с трофейными лошадьми»).
2. Казак Лихачев: последний друг детства
Даже в военном лагере Петя ищет отца-защитника, проецируя на казака черты сказочного спасителя:
«Самый добрый, храбрый человек на свете» — намёк на былинных богатырей. Лихачев точит саблю, как волшебный меч, но читатель уже знает: это орудие не спасёт.
Натачивание сабли — гипнотический ритуал, усыпляющий Петю. Звук стали о камень — колыбельная перед последним сном.
3. Гусар, который «исчез и его не было»: метафора ускользающей жизни
Эпизод с исчезающим гусаром — предвестие собственной судьбы Пети:
«Прошёл за водой и пропал» — намёк на мифологический сюжет о юноше, ушедшем к ручью и попавшем в царство мёртвых (ср. Нарцисс).
Поток сознания через повторы «может быть» имитирует детскую попытку ухватиться за реальность. Но чем больше вариантов, тем явственнее пустота — как в «Чёрном квадрате» Малевича, чёрное пятно поглощает все «может быть».
4. Стилистика перехода: от сказки к пуле
Толстой использует приёмы, стирающие грань между сном и ясностью:
Антитезы: «фура — башня», «казак — герой», «костёр — глаз». Это не контраст, а двойная экспозиция — как на старых фото, где лицо живого наложено на фон будущей могилы.
Риторические вопросы («Может быть, он точно сидит на фуре?») — не сомнение, а знание автора. Читатель кричит: «Очнись, Петя!», но мальчик уже в ином измерении.
Повторы как заклинание: словно ребёнок, который, закрыв глаза, шепчет «это сон», пытаясь отменить реальность.
5. Смерть как продолжение сна
Гибель Пети — логичное завершение его «волшебного царства»:
Не услышал выстрела — потому что верил в бессмертие, дарованное сказкой. Пуля стала частью сна, где «падаешь, но не долетаешь».
«Он споткнулся, и кровь залила его белый лицо» — единственное «красное пятно», которое не превратилось в костёр. Глаз чудовища наконец открылся.
Невинность как приговор, обнажается во внутреннем монологе
Петя Ростов — жертва не войны, а взросления. Его детское восприятие, столь похожее на мир Николеньки («тёмные пятна» памяти) или Пети из вашего анализа, оказывается смертельно опасным. Толстой показывает: на войне гибнут не те, кто боится, а те, кто до конца остаётся ребёнком — с «добрым казаком» в сердце и верой в бесконечное падение.
Все это раскрывает главную трагедию: дети 1812 года погибали, так и не проснувшись. Их последней мыслью была не боль, а удивление: «Неужели это не сон?»
Как главный герой представляет Интеграл: Почему в его сознании возникают фантастические образы? Как они связаны с идеей тотального контроля и механизации жизни? (Интеграл – устройство, которое обеспечивает связь между всеми жителями Единого Государства и позволяет контролировать их действия).
Все это слишком ясно, все это в одну секунду, в один оборот логической машины, а потом тотчас же зубцы зацепили минус -- и вот наверху уж другое: еще покачивается кольцо в шкафу. Дверь, очевидно, только захлопнули -- а ее, I, нет: исчезла. Этого машина никак не могла провернуть. Сон? Но я еще и сейчас чувствую: непонятная сладкая боль в правом плече -- прижавшись к правому плечу, I -- рядом со мной в тумане. "Ты любишь туман?" Да, и туман... все люблю, и все -- упругое, новое, удивительное, все -- хорошо...
-- Все -- хорошо, -- вслух сказал я.
-- Хорошо? -- кругло вытаращились фаянсовые глаза. -- То есть что же тут хорошего? Если этот ненумерованный умудрился... стало быть, они -- всюду, кругом, все время, они тут, они -- около "Интеграла", они...
-- Да кто они?
-- А почем я знаю, кто. Но я их чувствую -- понимаете? Все время.
-- А вы слыхали: будто какую-то операцию изобрели -- фантазию вырезывают? (На днях в самом деле я что-то вроде этого слышал.)
-- Ну, знаю. При чем же это тут?
-- А при том, что я бы на вашем месте -- пошел и попросил сделать себе эту операцию.
На тарелке явственно обозначилось нечто лимонно-кислое. Милый -- ему показался обидным отдаленный намек на то, что у него может быть фантазия... Впрочем, что же: неделю назад, вероятно, я бы тоже обиделся. А теперь -- теперь нет: потому что я знаю, что это у меня есть, -- что я болен. И знаю еще -- не хочется выздороветь. Вот не хочется, и все. По стеклянным ступеням мы поднялись наверх. Все -- под нами внизу -- как на ладони...
Вы, читающие эти записки, -- кто бы вы ни были, но над вами солнце. И если вы тоже когда-нибудь были так больны, как я сейчас, вы знаете, какое бывает -- какое может быть -- утром солнце, вы знаете это розовое, прозрачное, теплое золото. И самый воздух -- чуть розовый, и все пропитано нежной солнечной кровью, все -- живое: живые и все до одного улыбаются -- люди. Может случиться, через час исчезнет, через час выкаплет розовая кровь, но пока -- живое. И я вижу: пульсирует и переливается что-то в стеклянных соках "Интеграла"; я вижу: "Интеграл" мыслит о великом и страшном своем будущем, о тяжком грузе неизбежного счастья, которое он понесет туда вверх, вам, неведомым, вам, вечно ищущим и никогда не находящим. Вы найдете, вы будете счастливы -- вы обязаны быть счастливыми, и уже недолго вам ждать.
Корпус "Интеграла" почти готов: изящный удлиненный эллипсоид из нашего стекла -- вечного, как золото, гибкого, как сталь. Я видел: изнутри крепили к стеклянному телу поперечные ребра -- шпангоуты, продольные -- стрингера; в корме ставили фундамент для гигантского ракетного двигателя. Каждые 3 секунды могучий хвост "Интеграла" будет низвергать пламя и газы в мировое пространство -- и будет нестись, нестись -- огненный Тамерлан счастья...
Я видел: по Тэйлору, размеренно и быстро, в такт, как рычаги одной огромной машины, нагибались, разгибались, поворачивались люди внизу. В руках у них сверкали трубки: огнем резали, огнем спаивали стеклянные стенки, угольники, ребра, кницы. Я видел: по стеклянным рельсам медленно катились прозрачно-стеклянные чудовища-краны, и так же, как люди, послушно поворачивались, нагибались, просовывали внутрь, в чрево "Интеграла", свои грузы. И это было одно: очеловеченные, совершенные люди. Это была высочайшая, потрясающая красота, гармония, музыка... Скорее -- вниз, к ним, с ними!
И вот -- плечом к плечу, сплавленный с ними, захваченный стальным ритмом... Мерные движения: упруго-круглые, румяные щеки; зеркальные, не омраченные безумием мыслей лбы. Я плыл по зеркальному морю. Я отдыхал.
И вдруг один безмятежно обернулся ко мне:
-- Ну как: ничего, лучше сегодня?
-- Что лучше?
-- Да вот -- не было-то вас вчера. Уж мы думали -- у вас опасное что... -- сияет лоб, улыбка -- детская, невинная.
Кровь хлестнула мне в лицо. Я не мог, не мог солгать этим глазам. Я молчал, тонул...
(Замятин "Мы")
-- Все -- хорошо, -- вслух сказал я.
-- Хорошо? -- кругло вытаращились фаянсовые глаза. -- То есть что же тут хорошего? Если этот ненумерованный умудрился... стало быть, они -- всюду, кругом, все время, они тут, они -- около "Интеграла", они...
-- Да кто они?
-- А почем я знаю, кто. Но я их чувствую -- понимаете? Все время.
-- А вы слыхали: будто какую-то операцию изобрели -- фантазию вырезывают? (На днях в самом деле я что-то вроде этого слышал.)
-- Ну, знаю. При чем же это тут?
-- А при том, что я бы на вашем месте -- пошел и попросил сделать себе эту операцию.
На тарелке явственно обозначилось нечто лимонно-кислое. Милый -- ему показался обидным отдаленный намек на то, что у него может быть фантазия... Впрочем, что же: неделю назад, вероятно, я бы тоже обиделся. А теперь -- теперь нет: потому что я знаю, что это у меня есть, -- что я болен. И знаю еще -- не хочется выздороветь. Вот не хочется, и все. По стеклянным ступеням мы поднялись наверх. Все -- под нами внизу -- как на ладони...
Вы, читающие эти записки, -- кто бы вы ни были, но над вами солнце. И если вы тоже когда-нибудь были так больны, как я сейчас, вы знаете, какое бывает -- какое может быть -- утром солнце, вы знаете это розовое, прозрачное, теплое золото. И самый воздух -- чуть розовый, и все пропитано нежной солнечной кровью, все -- живое: живые и все до одного улыбаются -- люди. Может случиться, через час исчезнет, через час выкаплет розовая кровь, но пока -- живое. И я вижу: пульсирует и переливается что-то в стеклянных соках "Интеграла"; я вижу: "Интеграл" мыслит о великом и страшном своем будущем, о тяжком грузе неизбежного счастья, которое он понесет туда вверх, вам, неведомым, вам, вечно ищущим и никогда не находящим. Вы найдете, вы будете счастливы -- вы обязаны быть счастливыми, и уже недолго вам ждать.
Корпус "Интеграла" почти готов: изящный удлиненный эллипсоид из нашего стекла -- вечного, как золото, гибкого, как сталь. Я видел: изнутри крепили к стеклянному телу поперечные ребра -- шпангоуты, продольные -- стрингера; в корме ставили фундамент для гигантского ракетного двигателя. Каждые 3 секунды могучий хвост "Интеграла" будет низвергать пламя и газы в мировое пространство -- и будет нестись, нестись -- огненный Тамерлан счастья...
Я видел: по Тэйлору, размеренно и быстро, в такт, как рычаги одной огромной машины, нагибались, разгибались, поворачивались люди внизу. В руках у них сверкали трубки: огнем резали, огнем спаивали стеклянные стенки, угольники, ребра, кницы. Я видел: по стеклянным рельсам медленно катились прозрачно-стеклянные чудовища-краны, и так же, как люди, послушно поворачивались, нагибались, просовывали внутрь, в чрево "Интеграла", свои грузы. И это было одно: очеловеченные, совершенные люди. Это была высочайшая, потрясающая красота, гармония, музыка... Скорее -- вниз, к ним, с ними!
И вот -- плечом к плечу, сплавленный с ними, захваченный стальным ритмом... Мерные движения: упруго-круглые, румяные щеки; зеркальные, не омраченные безумием мыслей лбы. Я плыл по зеркальному морю. Я отдыхал.
И вдруг один безмятежно обернулся ко мне:
-- Ну как: ничего, лучше сегодня?
-- Что лучше?
-- Да вот -- не было-то вас вчера. Уж мы думали -- у вас опасное что... -- сияет лоб, улыбка -- детская, невинная.
Кровь хлестнула мне в лицо. Я не мог, не мог солгать этим глазам. Я молчал, тонул...
(Замятин "Мы")
Гофман. Кавалер Глюк
- Не понимаю вас. - Тем лучше. - Тем хуже! Мне очень бы хотелось вас понять. - Неужто вы ничего не слышите? - Ничего. - Уже все кончилось! Пойдемте вместе. Вообще-то я недолюбливаю общество, но... вы не сочиняете музыки... и вы не берлинец. - Ума не приложу, чем перед вами провинились берлинцы. Казалось бы, в Берлине так чтут искусство и столь усердно им занимаются, что вам, человеку с душой артиста, должно быть здесь особенно хорошо! - Ошибаетесь! Я обречен, себе на горе, блуждать здесь в пустоте, как душа, отторгнутая от тела. - Пустота здесь, в Берлине? - Да, вокруг меня все пусто, ибо мне не суждено встретить родную душу. Я вполне одинок. - Как же - а художники? Композиторы? - Ну их! Они только и знают, что крохоборствуют. Вдаются в излишние тонкости, все переворачивают вверх дном, лишь бы откопать хоть одну жалкую мыслишку. За болтовней об искусстве, о любви к искусству и еще невесть о чем не успевают добраться до самого искусства, а если невзначай разрешатся двумя-тремя мыслями, то от их стряпни повеет леденящим холодом, показывающим, сколь далеки они от солнца - поистине лапландская кухня. - На мой взгляд, вы судите чересчур строго. А превосходные театральные представления!.. Неужто и они не удовлетворяют вас? - Однажды я пересилил себя и решился снова побывать в театре. Мне хотелось послушать оперу моего молодого друга; как бишь она называется? О, в этой опере целый мир! Среди суетливой и пестрой толпы разряженных людей мелькают духи Орка6 - у всего здесь свой голос, свое всемогущее звучание... А, черт, ну конечно же, я имею в виду "ДонЖуана"7. Но я не вытерпел даже увертюры, которую отмахали престиссимо, без всякого толка и смысла, а ведь я перед тем предавался посту и молитве, ибо знал, что Эвфон, потрясенный этой громадой, обычно звучит не так, как нужно.
Разговор с самим собой в романтической литературе часто становится разговором с идеалным собеседником- гением.Каким образом автор соединяет внутренний монолог с действиями героя, прямую форму монолога с косвенной?
"Тогда он подумал, что, может, она все-таки прошла мимо парадной и ждет под аркой, пока он тут греется. Выбежал, добежал до арки — там никого не было. Тогда он подумал, что в этот момент она входит в парадную. И вот они разминулись… Он поспешил обратно. В парадной никого не было. Мальчик стоял в парадной, за стеклянной дверью, и смотрел на улицу на тот случай, если она пройдет мимо, к арке. Но в какой-то момент, когда он отвернулся посмотреть, кто спускается по лестнице, ему показалось, что она прошла мимо двери, только он не заметил. Спускался толстый старик. А промелькнула за стеклянной дверью, конечно же, она! Мальчик еще раз сбегал к арке. Там никого не было. И он вернулся.
Нельзя быть таким ребенком, думал мальчик. Надо все обдумать, а не метаться и не сходить с ума. Прошло сорок минут, и, конечно, она уже не подойдет к арке. Тогда одно из двух: либо она уже пришла и сидит там, в комнате на третьем этаже, пока я ношусь тут внизу, либо она еще не пришла, и тогда надо ждать ее тут, на лестнице. И необязательно у дверей, потому что она все равно не пойдет к арке, раз так опоздала. Можно подняться на третий этаж и погреться у батареи. Так"...
<...>
Потом, когда дверь закрыта, а рыба словно ушла в стену, он понял движение губ:
— Она, наверно, и не придет сегодня.
«Я же слышал ее голос, — думал мальчик, — там, среди других! Значит, она не хочет меня видеть. Она там, с ними, даже с ним…» С тем, который брал мальчика за подбородок. А он здесь, на лестнице… И она знает это. И сама сказала подруге, чтобы та прогнала мальчика…
— Гадина, — сказал мальчик. — Гадина, — сказал он вслух. — Гадина! — сказал он, спускаясь по лестнице.
А если действительно ее там нет, рассуждал он. Если мне, глупому ревнивцу, просто показалось, что это был ее голос… Она ведь не может так обмануть.
(А.Битов. "Улетающий Монахов")
Нельзя быть таким ребенком, думал мальчик. Надо все обдумать, а не метаться и не сходить с ума. Прошло сорок минут, и, конечно, она уже не подойдет к арке. Тогда одно из двух: либо она уже пришла и сидит там, в комнате на третьем этаже, пока я ношусь тут внизу, либо она еще не пришла, и тогда надо ждать ее тут, на лестнице. И необязательно у дверей, потому что она все равно не пойдет к арке, раз так опоздала. Можно подняться на третий этаж и погреться у батареи. Так"...
<...>
Потом, когда дверь закрыта, а рыба словно ушла в стену, он понял движение губ:
— Она, наверно, и не придет сегодня.
«Я же слышал ее голос, — думал мальчик, — там, среди других! Значит, она не хочет меня видеть. Она там, с ними, даже с ним…» С тем, который брал мальчика за подбородок. А он здесь, на лестнице… И она знает это. И сама сказала подруге, чтобы та прогнала мальчика…
— Гадина, — сказал мальчик. — Гадина, — сказал он вслух. — Гадина! — сказал он, спускаясь по лестнице.
А если действительно ее там нет, рассуждал он. Если мне, глупому ревнивцу, просто показалось, что это был ее голос… Она ведь не может так обмануть.
(А.Битов. "Улетающий Монахов")

Внутренний диалог
Диалог
Беседа Ивана Карамазова с чертом - образец внутреннего диалога.
Разговор Ивана с самим собой - с чертом - весьма мучителен ввиду саморефлексии персонажа. Он ни на минуту не сомневается, что разговаривает сам с собой и мучается тем, что его собеседник - негация, что с самим собой светлым и прекрасным, он поговорить не может. Его внутренний собеседник решительно не может сказать ничего веселого. И весь диалог с самим собой получается мрачным, что сводит героя с ума.
– Слушай, – встал вдруг из-за стола Иван Федорович. – Я теперь точно в бреду… и, уж конечно, в бреду… ври что хочешь, мне всё равно! Ты меня не приведешь в исступление, как в прошлый раз. Мне только чего-то стыдно… Я хочу ходить по комнате… Я тебя иногда не вижу и голоса твоего даже не слышу, как в прошлый раз, но всегда угадываю то, что ты мелешь, потому что это я, я сам говорю, а не ты! Не знаю только, спал ли я в прошлый раз или видел тебя наяву? Вот я обмочу полотенце холодною водой и приложу к голове, и авось ты испаришься.
Иван Федорович прошел в угол, взял полотенце, исполнил, как сказал, и с мокрым полотенцем на голове стал ходить взад и вперед по комнате.
– Мне нравится, что мы с тобой прямо стали на ты, – начал было гость.
– Дурак, – засмеялся Иван, – что ж я вы, что ли, стану тебе говорить. Я теперь весел, только в виске болит… и темя… только, пожалуйста, не философствуй, как в прошлый раз. Если не можешь убраться, то ври что-нибудь веселое. Сплетничай, ведь ты приживальщик, так сплетничай. Навяжется же такой кошмар! Но я не боюсь тебя. Я тебя преодолею. Не свезут в сумасшедший дом!
– C'est charmant, приживальщик. Да я именно в своем виде. Кто ж я на земле, как не приживальщик? Кстати, я ведь слушаю тебя и немножко дивлюсь: ей-богу, ты меня как будто уже начинаешь помаленьку принимать за нечто и в самом деле, а не за твою только фантазию, как стоял на том в прошлый раз…
– Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду, – как-то яростно даже вскричал Иван. – Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак. Я только не знаю, чем тебя истребить, и вижу, что некоторое время надобно прострадать. Ты моя галлюцинация. Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны… моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых. С этой стороны ты мог бы быть даже мне любопытен, если бы только мне было время с тобой возиться…
(Ф.М.Достоевский. Братья Карамазовы)
Иван Федорович прошел в угол, взял полотенце, исполнил, как сказал, и с мокрым полотенцем на голове стал ходить взад и вперед по комнате.
– Мне нравится, что мы с тобой прямо стали на ты, – начал было гость.
– Дурак, – засмеялся Иван, – что ж я вы, что ли, стану тебе говорить. Я теперь весел, только в виске болит… и темя… только, пожалуйста, не философствуй, как в прошлый раз. Если не можешь убраться, то ври что-нибудь веселое. Сплетничай, ведь ты приживальщик, так сплетничай. Навяжется же такой кошмар! Но я не боюсь тебя. Я тебя преодолею. Не свезут в сумасшедший дом!
– C'est charmant, приживальщик. Да я именно в своем виде. Кто ж я на земле, как не приживальщик? Кстати, я ведь слушаю тебя и немножко дивлюсь: ей-богу, ты меня как будто уже начинаешь помаленьку принимать за нечто и в самом деле, а не за твою только фантазию, как стоял на том в прошлый раз…
– Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду, – как-то яростно даже вскричал Иван. – Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак. Я только не знаю, чем тебя истребить, и вижу, что некоторое время надобно прострадать. Ты моя галлюцинация. Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны… моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых. С этой стороны ты мог бы быть даже мне любопытен, если бы только мне было время с тобой возиться…
(Ф.М.Достоевский. Братья Карамазовы)
Диалог с черным человеком - односторонний, через местоимение "он" происходит у Сергея Есенина в поэме "Черный человек". Биография Есенина рассказывается как в потешном карнавальном некрологе. Самокритичность поэта, занижение своего места в поэзии, гибельные метания - итог внутренних противоречий.
Черный, черный...
"Слушай, слушай,-
Бормочет он мне,-
В книге много прекраснейших
Мыслей и планов.
Этот человек
Проживал в стране
Самых отвратительных
Громил и шарлатанов.
В декабре в той стране
Снег до дьявола чист,
И метели заводят
Веселые прялки.
Был человек тот авантюрист,
Но самой высокой
И лучшей марки.
Был он изящен,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,
И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою".
(С.Есенин. "Черный человек")
"Слушай, слушай,-
Бормочет он мне,-
В книге много прекраснейших
Мыслей и планов.
Этот человек
Проживал в стране
Самых отвратительных
Громил и шарлатанов.
В декабре в той стране
Снег до дьявола чист,
И метели заводят
Веселые прялки.
Был человек тот авантюрист,
Но самой высокой
И лучшей марки.
Был он изящен,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,
И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою".
(С.Есенин. "Черный человек")