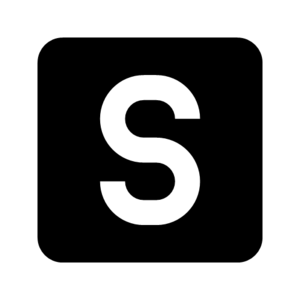Высоцкий и шестидесятники
Авторская песня
Барды
Они создали настроение эпохи
- В.Высоцкий
- А.Галич
- Ю.Визбор
- М.Щербаков
Телемост с Алексеем Витаковым
В чем суть бардовской песни - из чего она родилась
синонимический ряд
«самодеятельная песня", "бардовская", «молодёжная», «городская», «студенческая», «туристская», «экспедиционная», «гитарная», «поэтическая», «литературная», песня шестидесятников.
Почему этот рассказ в стихах можно назвать песней? Почему эта песня не исполнялась с большой сцены? Чем примечателен факт, что в 1977 году он только ее пел в гостях у А. Крыжановской?
Мишка Шифман башковит -
У него предвиденье.
"Что мы видим, - говорит,-
Кроме телевиденья?
Смотришь конкурс в Сопоте -
И глотаешь пыль,
А кого ни попадя
Пускают в Израиль!"
Мишка также сообщил
По дороге в Мневники:
"Голду Меир я словил
В радиоприемнике..." И такое рассказал, До того красиво!- Что я чуть было не попал В лапы Тель-Авива. Я сперва-то был не пьян, Возразил два раза я - Говорю: "Моше Даян - Сука одноглазая,- Агрессивный, бестия, Чистый фараон,- Ну, а где агрессия - Там мне не резон". Мишка тут же впал в экстаз - После литры выпитой - Говорит: "Они же нас Выгнали с Египета! Оскорбления простить Не могу такого,- Я позор желаю смыть С Рождества Христова!" Мишка взял меня за грудь: "Мне нужна компания! Мы ж с тобой не как-нибудь - Здравствуй-до свидания,- Побредем, паломники, Чувства придавив!.. Хрена ли нам Мневники - Едем в Тель-Авив!" Я сказал: "Я вот он весь, Ты же меня спас в порту. Но одна загвоздка есть: Русский я по паспорту. Только русские в родне, Прадед мой - самарин,- Если кто и влез ко мне, Так и тот - татарин". Мишку Шифмана не трожь, С Мишкой - прочь сомнения: У него евреи сплошь В каждом поколении. Дед параличом разбит,- Бывший врач-вредитель... А у меня - антисемит На антисемите. Мишка - врач, он вдруг затих: В Израиле бездна их,- Гинекологов одних - Как собак нерезаных; Нет зубным врачам пути - Слишком много просится. Где на всех зубов найти? Значит - безработица! Мишка мой кричит: "К чертям! Виза - или ванная! Едем, Коля,- море там Израилеванное!.." Видя Мишкину тоску,- А он в тоске опасный,- Я еще хлебнул кваску И сказал: "Согласный!" ...Хвост огромный в кабинет Из людей, пожалуй, ста. Мишке там сказали "нет", Ну а мне - "пожалуйста". Он кричал: "Ошибка тут,- Это я - еврей!.." А ему: "Не шибко тут! Выйди, вон, из дверей!" Мишку мучает вопрос: Кто тут враг таинственный? А ответ ужасно прост - И ответ единственный: Я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу,- Мишка пьет проклятую,- Говорит, что за графу Не пустили - пятую.(Владимир Высоцкий)
У него предвиденье.
"Что мы видим, - говорит,-
Кроме телевиденья?
Смотришь конкурс в Сопоте -
И глотаешь пыль,
А кого ни попадя
Пускают в Израиль!"
Мишка также сообщил
По дороге в Мневники:
"Голду Меир я словил
В радиоприемнике..." И такое рассказал, До того красиво!- Что я чуть было не попал В лапы Тель-Авива. Я сперва-то был не пьян, Возразил два раза я - Говорю: "Моше Даян - Сука одноглазая,- Агрессивный, бестия, Чистый фараон,- Ну, а где агрессия - Там мне не резон". Мишка тут же впал в экстаз - После литры выпитой - Говорит: "Они же нас Выгнали с Египета! Оскорбления простить Не могу такого,- Я позор желаю смыть С Рождества Христова!" Мишка взял меня за грудь: "Мне нужна компания! Мы ж с тобой не как-нибудь - Здравствуй-до свидания,- Побредем, паломники, Чувства придавив!.. Хрена ли нам Мневники - Едем в Тель-Авив!" Я сказал: "Я вот он весь, Ты же меня спас в порту. Но одна загвоздка есть: Русский я по паспорту. Только русские в родне, Прадед мой - самарин,- Если кто и влез ко мне, Так и тот - татарин". Мишку Шифмана не трожь, С Мишкой - прочь сомнения: У него евреи сплошь В каждом поколении. Дед параличом разбит,- Бывший врач-вредитель... А у меня - антисемит На антисемите. Мишка - врач, он вдруг затих: В Израиле бездна их,- Гинекологов одних - Как собак нерезаных; Нет зубным врачам пути - Слишком много просится. Где на всех зубов найти? Значит - безработица! Мишка мой кричит: "К чертям! Виза - или ванная! Едем, Коля,- море там Израилеванное!.." Видя Мишкину тоску,- А он в тоске опасный,- Я еще хлебнул кваску И сказал: "Согласный!" ...Хвост огромный в кабинет Из людей, пожалуй, ста. Мишке там сказали "нет", Ну а мне - "пожалуйста". Он кричал: "Ошибка тут,- Это я - еврей!.." А ему: "Не шибко тут! Выйди, вон, из дверей!" Мишку мучает вопрос: Кто тут враг таинственный? А ответ ужасно прост - И ответ единственный: Я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу,- Мишка пьет проклятую,- Говорит, что за графу Не пустили - пятую.(Владимир Высоцкий)
Как песня связана с мотивами С.Есенина и А. Пушкина?
(Песня написана Владимиром Высоцким в 1972 году. В 1973 году она приобрела профессиональное звучание благодаря композитору Георгию Фиртичу. Балетмейстер Кирилл Ласкари задумал спектакль. Но постановка не увидела свет, ее запретили еще до выхода. Отсюда не очень шмрокая известность этой песни. В. Высоцкий пел ее дуэтом с актрисой М. Влади, а также с известной певицей Л. Зыкиной, для которой вполне подходила такая тематика).
(Песня написана Владимиром Высоцким в 1972 году. В 1973 году она приобрела профессиональное звучание благодаря композитору Георгию Фиртичу. Балетмейстер Кирилл Ласкари задумал спектакль. Но постановка не увидела свет, ее запретили еще до выхода. Отсюда не очень шмрокая известность этой песни. В. Высоцкий пел ее дуэтом с актрисой М. Влади, а также с известной певицей Л. Зыкиной, для которой вполне подходила такая тематика).
Песня о Волге
Как по Волге-матушке, по реке-кормилице —Всё суда с товарами, струги да ладьи…
И не притомилася, и не надорвалася:
Ноша не тяжёлая — корабли свои.
Вниз по Волге плавая,
Прохожу пороги я
И гляжу на правые
Берега пологие:
Там камыш шевелится,
Поперёк ломается,
Справа — берег стелется,
Слева — подымается.
Волга песни слышала хлеще чем «Дубинушка»,
Вся вода исхлёстана пулями врагов, —
И плыла по Матушке наша кровь-кровинушка,
Стыла бурой пеною возле берегов.
Долго в воды пресные
Лили слёзы строгие
Берега отвесные,
Берега пологие —
Плакали, измызганы
Острыми подковами,
Но теперь зализаны
Эти раны волнами.
Что-то с вами сделалось, берега старинные,
В коих — стены древние, церкви да кремли,
Словно пробудилися молодцы старинные
И, числом несметные, встали из земли.
Лапами грабастая,
Корабли стараются —
Тянут баржи с Каспия,
Тянут — надрываются,
Тянут — не оглянутся,
И на вёрсты многие
За крутыми тянутся
Берега пологие.
В.Высоцкий
Песенка о солдатских сапогах
Вы слышите: грохочут сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки?
Вы поняли, куда они глядят?
Вы слышите: грохочет барабан?
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней…
Уходит взвод в туман-туман-туман…
А прошлое ясней-ясней-ясней.
А где же наше мужество, солдат,
когда мы возвращаемся назад?
Его, наверно, женщины крадут
и, как птенца, за пазуху кладут.
А где же наши женщины, дружок,
когда вступаем мы на свой порог?
Они встречают нас и вводят в дом,
но в нашем доме пахнет воровством.
А мы рукой на прошлое: вранье!
А мы с надеждой в будущее: свет!
А по полям жиреет воронье,
а по пятам война грохочет вслед.
И снова переулком — сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки…
В затылки наши круглые глядят.
Б.Окуджава, 1957
Вы слышите: грохочут сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки?
Вы поняли, куда они глядят?
Вы слышите: грохочет барабан?
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней…
Уходит взвод в туман-туман-туман…
А прошлое ясней-ясней-ясней.
А где же наше мужество, солдат,
когда мы возвращаемся назад?
Его, наверно, женщины крадут
и, как птенца, за пазуху кладут.
А где же наши женщины, дружок,
когда вступаем мы на свой порог?
Они встречают нас и вводят в дом,
но в нашем доме пахнет воровством.
А мы рукой на прошлое: вранье!
А мы с надеждой в будущее: свет!
А по полям жиреет воронье,
а по пятам война грохочет вслед.
И снова переулком — сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки…
В затылки наши круглые глядят.
Б.Окуджава, 1957
"В чем, собственно, дело? Есть семьи, в которых верность является законом, но есть и другие, в которых она не соблюдается. Да, это не хорошо, да, это, конечно же, безнравственно, да, это грубое нарушение морали. Но это существует даже в мирное время. Безусловно, степень безнравственности измены растет в немереные разы в годы войны, когда муж рискует жизнью, находясь на фронте. Измену в военное время, конечно же, нельзя простить, но можно понять. Ведь рухнул мир, обвалились небеса, светопреставление наяву… Человек холодеет от страха… Забыться бы на день, хотя бы на час… Окуджава ничего не придумал — он просто отразил реальность в поэтической форме. Что касается строчек
А мы рукой на прошлое: вранье!
А мы с надеждой в будущее: свет!
то, что может сказать вернувшийся солдат? Ведь он не вернулся с войны победителем! Нет! Он, пока что битый, забежал домой, отпросившись у командира отступающего и потрепанного в боях взвода. Забежал на считанные минуты повидаться… Более того, он должен был отступать и дальше, бросая жену, детей и родной дом…Он говорил пустые, успокаивающие, в первую очередь, его самого, слова. Боюсь, что говорил он их, не понимая глаз…
Четвертый блок:
А по полям жиреет воронье,
а по пятам война грохочет вслед.
И снова переулком — сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки…
В затылки наши круглые глядят.
Первая строчка означает, что советские войска («взвод» у Окуджавы) понесли серьезные потери и незахороненные солдаты и офицеры валяются по полям — добыча для хищных воронов — как известно, советская армия этим грешила (Полмиллиона солдат и офицеров до сих пор лежат на местах боев — 50 незахороненных дивизий). Между тем, вторая-четвертая строчки говорят о том, что война продолжается: «а по пятам война грохочет вслед./И снова переулком — сапоги,/и птицы ошалелые летят», немецкие войска наступают по пятам советских войск и линия фронта уже совсем рядом". - так пишет критик Виктор Финкель.
Он под сапогами понимает немецкие сапоги: "Отсюда следует, что солдатских сапог в Красной Армии, да еще в самом начале войны, попросту, не было! В отличие от Красной Армии, немецкие войска были в сапогах поголовно. Все солдаты имели подкованные маршевые сапоги!"
https://nkontinent.com/tragicheskaya-sharada-bulata-okujavy/
Прав ли он, особенно относительно сапог?
Стихотворение Булата Окуджавы «Песенка о солдатских сапогах» (1957) — это горькая рефлексия о неизживаемой травме войны, которая преследует человека даже в мирной жизни. Через образы марширующих солдат, женщин, воронья и вечного «грохота» автор показывает, как война калечит не только тела, но и души, разрывая связь между прошлым и будущим. Разберём ключевые мотивы.
Структура и ритм: марш как проклятие
Стихотворение построено как бесконечный марш:
- Повторы: «туман-туман-туман», «ясней-ясней-ясней», «грохочут сапоги» — создают эффект навязчивой цикличности. Война не кончается, даже когда «взвод уходит».
- Ритм: четырёхстопный ямб с пиррихиями имитирует солдатский шаг. Но это не бодрый парад, а шествие потерянных, как в фильме Тарковского «Иваново детство»: «Уходит взвод в туман…» — растворяясь, они уносят с собой частицу человечности.
- Звукопись: аллитерации на «гр» («грохочут», «грохочет») — звук разрывающейся земли под снарядами, ассоциируется с грозой или гробом.
- «Сапоги»
- Символ военной машины, давящей всё живое. Они «грохочут» не на фронте, а в мирных переулках — война въелась в повседневность. Даже вернувшись домой, солдаты не могут снять сапоги: они стали частью их тела, как клеймо.
- Контекст: В 1957 году, когда писалось стихотворение, тысячи фронтовиков ещё носили солдатские сапоги — не из-за бедности, а потому что не могли психологически перейти на гражданскую обувь.
- «Женщины глядят из-под руки»
- Жест, полный тревоги и бессилия. Женщины здесь — не жёны и матери, встречающие героев, а свидетели, которые видят, как война калечит их мужчин.
- — «В нашем доме пахнет воровством»: метафора утраченного доверия. Солдаты, вернувшись, чувствуют себя ворами, укравшими чужую жизнь (или свою собственную?).
- «Вороньё жиреет по полям»
- Традиционный символ смерти, но у Окуджавы вороны — ещё и потребители войны. Они «жиреют» на трупах, тогда как солдаты голодают духовно: «А где же наше мужество, солдат?.. Его, наверно, женщины крадут».
- — Мужество здесь не доблесть, а способность чувствовать. Женщины «крадут» его, пытаясь вернуть мужчин к мирной жизни, но тем самым лишая их опоры — ведь на войне они выживали, отключив душу.
- «В затылки наши круглые глядят»
- Финал стихотворения — самый страшный образ. «Круглые затылки» — намёк на прицел или на жертв, которые смотрят в спины выживших. Война преследует их, как тень: «грохочет вслед».
- — Здесь Окуджава предвосхищает тему вины поколения, позже развитую Воробьёвым в «Убиты под Москвой»: солдаты чувствуют себя предателями, потому что выжили, а другие — нет.
Стихотворение построено на разрыве между иллюзиями и реальностью:
- Прошлое («а прошлое ясней-ясней-ясней») — не память, а незаживающая рана. Чем дальше уходит война, тем отчётливее видны её шрамы.
- Будущее («с надеждой в будущее: свет!») — обман. Солдаты пытаются верить в «свет», но он оказывается миражом: «по пятам война грохочет вслед».
- Настоящее — жизнь «в тумане», где нет ни правды прошлого, ни ясности будущего. Даже дом становится чужим: «пахнет воровством» — возможно, краденой жизнью, которую не удалось прожить.
1957 год — время «оттепели», но Окуджава пишет не о надеждах, а о экзистенциальной пустоте фронтовиков:
- Они прошли ад войны, но мирная жизнь оказалась чуждой. Как писал В. Некрасов: «В окопах не было места абстрактной любви к человечеству, но там была ненависть к войне. А теперь ненавидеть нечего, и осталась пустота».
- «А где же наши женщины, дружок?..» — вопрос не о предательстве, а о несовместимости опытов. Женщины, пережившие блокаду или оккупацию, не могут понять мужчин, видевших смерть в лицо, но по-другому.
Окуджава не осуждает солдат за «воровство» или утрату мужества. Он показывает, что война — это болезнь души, которая не лечится победными парадами. «Сапоги» здесь — метафора неснимаемой маски: солдаты навсегда остаются заложниками фронта, даже когда физически возвращаются домой.
Стихотворение перекликается с романом Ремарка «На Западном фронте без перемен»: герои Окуджавы тоже «потерянное поколение», для которого «мир» стал продолжением войны другими средствами. Их трагедия — в невозможности искупления, ведь «вороньё» уже съело их прошлое, а будущее так и не наступило.
Как связана эта песня со стихотворением А.Фета: "Я пришел к тебе с приветом..."?
Помнишь, как оно бывало?
Все горело, все светилось,
Утром солнце как вставало,
Так до ночи не садилось.
А когда оно садилось,
Ты звонила мне и пела:
"Приходи, мол, сделай милость,
Расскажи, что солнце село..."
И бежал я, спотыкаясь,
И хмелел от поцелуя,
И обратно брел, шатаясь,
Напевая "аллилуйя".
Шел к приятелю и к другу,
С корабля на бал, и с бала -
На корабль, и так по кругу ,
Без конца и без начала.
На секунды рассыпаясь,
Как на искры фейерверка,
Жизнь текла, переливаясь,
Как цыганская венгерка.
Круг за кругом , честь по чести,
Ни почетно, ни позорно...
Но в одном прекрасном месте
Оказался круг разорван .
И в лицо мне черный ветер
Загудел, нещадно дуя.
А я даже не ответил,
Напевая "аллилуйя".
Сквозь немыслимую вьюгу,
Через жуткую поземку,
Я летел себе по кругу
И не знал, что он разомкнут.
Лишь у самого разрыва
Я неладное заметил
И воскликнул: "Что за диво!"
Но движенья не замедлил.
Я недоброе почуял,
И бессмысленно, но грозно
Прошептал я "аллилуйя",
Да уж это было поздно.
Те всемирные теченья,
Те всесильные потоки,
Что диктуют направленья
И указывают сроки,
Управляя каждым шагом,
Повели меня, погнали
Фантастическим зигзагом
По неведомой спирали.
И до нынешнего часа,
До последнего предела
Я на круг не возвращался,
Но я помню, как ты пела.
И уж если возвращенье
Совершить судьба заставит,
Пусть меня мое мгновенье
У дверей твоих застанет.
Неприкаянный и лишний,
Окажусь я у истока.
И пускай тогда Всевышний
Приберет меня до срока.
А покуда ветер встречный
Все безумствует, лютуя,
Аллилуйя, свет мой млечный!
Аллилуйя, аллилуйя...
Все горело, все светилось,
Утром солнце как вставало,
Так до ночи не садилось.
А когда оно садилось,
Ты звонила мне и пела:
"Приходи, мол, сделай милость,
Расскажи, что солнце село..."
И бежал я, спотыкаясь,
И хмелел от поцелуя,
И обратно брел, шатаясь,
Напевая "аллилуйя".
Шел к приятелю и к другу,
С корабля на бал, и с бала -
На корабль, и так по кругу ,
Без конца и без начала.
На секунды рассыпаясь,
Как на искры фейерверка,
Жизнь текла, переливаясь,
Как цыганская венгерка.
Круг за кругом , честь по чести,
Ни почетно, ни позорно...
Но в одном прекрасном месте
Оказался круг разорван .
И в лицо мне черный ветер
Загудел, нещадно дуя.
А я даже не ответил,
Напевая "аллилуйя".
Сквозь немыслимую вьюгу,
Через жуткую поземку,
Я летел себе по кругу
И не знал, что он разомкнут.
Лишь у самого разрыва
Я неладное заметил
И воскликнул: "Что за диво!"
Но движенья не замедлил.
Я недоброе почуял,
И бессмысленно, но грозно
Прошептал я "аллилуйя",
Да уж это было поздно.
Те всемирные теченья,
Те всесильные потоки,
Что диктуют направленья
И указывают сроки,
Управляя каждым шагом,
Повели меня, погнали
Фантастическим зигзагом
По неведомой спирали.
И до нынешнего часа,
До последнего предела
Я на круг не возвращался,
Но я помню, как ты пела.
И уж если возвращенье
Совершить судьба заставит,
Пусть меня мое мгновенье
У дверей твоих застанет.
Неприкаянный и лишний,
Окажусь я у истока.
И пускай тогда Всевышний
Приберет меня до срока.
А покуда ветер встречный
Все безумствует, лютуя,
Аллилуйя, свет мой млечный!
Аллилуйя, аллилуйя...
Стихотворение Фета раскрывает диалог романтического идеализма и экзистенциального кризиса, здесь жизнеутверждающий порыв XIX века сталкивается с постмодернистской рефлексией. Рассмотрим ключевые аспекты.
Тематическое сопоставление
1. Природа и время
Философский подтекст
Стихотворение Щербакова — антитеза фетовскому гимну жизни. Если у Фета герой приходит, чтобы «рассказать о солнце», то у Щербакова — чтобы признать: солнце больше не светит, а «аллилуйя» произносится в пустоту.
Однако это не отрицание Фета, а горькая реплика из другого времени, где романтическая вера в гармонию разбивается о опыт XX–XXI веков. Разорванный круг, спираль, зигзаг — метафоры мира, утратившего центр. Даже память о том, «как ты пела», не спасает, но становится единственной нитью, связывающей героя с утраченным смыслом.
Фетовский восторг здесь — не опровергается, а ностальгически вспоминается как недостижимый идеал. «Аллилуйя» Щербакова — это крик поколения, которое, подобно Сизифу, продолжает катить камень вверх, зная, что он сорвётся. Но в этом жесте — и отчаяние, и странная надежда: вдруг «всемирные теченья» когда-нибудь приведут обратно к «истоку».
Тематическое сопоставление
1. Природа и время
- Фет:
- Природа — источник восторга и гармонии. Время циклично, но наполнено смыслом:
- «Лес проснулся, / Весь проснулся, веткой каждой…».
- Солнце здесь — символ вечного обновления, а утро — метафора начала, свободного от груза прошлого.
- Щербаков:
- Природа утрачивает сакральность, становясь фоном для абсурда. Время — порочный круг, разорванный в «прекрасном месте»:
- «Круг за кругом, честь по чести… / Но в одном прекрасном месте / Оказался круг разорван».
- Солнце уже не вдохновляет, а лишь маркирует бег по замкнутому маршруту: «Утром солнце как вставало, / Так до ночи не садилось» — это не вечность, а бессмысленная повторяемость.
- Фет:
- Любовь — естественное продолжение единения с миром. Герой приходит, чтобы поделиться радостью, а не найти утешение:
- «Рассказать, что отовсюду / На меня весельем веет».
- Диалог с возлюбленной лишён рефлексии — это поток жизни.
- Щербаков:
- Любовь — иллюзия, прерываемая хаосом. Возлюбленная зовёт героя, но её голос растворяется в «черном ветре»:
- «Ты звонила мне и пела… / Но в одном прекрасном месте / Оказался круг разорван».
- Вместо диалога — монолог-заклинание («аллилуйя»), ставшее пародией на молитву.
- Фет:
- Герой — проводник природной энергии, его движение легкое и целенаправленное:
- «Я пришел к тебе с приветом…» — здесь нет сомнений, только уверенность в своей миссии.
- Щербаков:
- Герой — «неприкаянный и лишний», движущийся «фантастическим зигзагом» по воле внешних сил:
- «Те всемирные теченья… / Повели меня, погнали».
- Его бег («бежал я, спотыкаясь», «летел себе по кругу») — метафора утраты контроля, где даже «аллилуйя» звучит как автоматизм.
Критерий | Фет | Щербаков |
Ритм | Плавный хорей, «танцующий» синтаксис | Рваный ритм, рефрены («аллилуйя»), нагнетание повторов |
Ключевые символы | Солнце, лес, песня | Круг, ветер, вьюга, спираль |
Лексика | Возвышенная, метафорическая | Ироничная («цыганская венгерка»), бытовая («корабль», «бал») |
Пространство | Природный космос | Лабиринт («зигзаг», «спираль»), тупик («разрыв») |
- Фет воспевает жизнь как чудо, где человек — часть гармоничного целого. Его стихотворение — гимн «вечному сейчас», где прошлое и будущее не имеют власти над мгновением.
- Щербаков фиксирует экзистенциальный тупик: жизнь — это бег по кругу, управляемый «всемирными теченьями», а свобода — иллюзия. Даже разрыв круга не приносит освобождения:
- «Я летел себе по кругу / И не знал, что он разомкнут».
- «Аллилуйя» здесь — не благодарность, а жест отчаяния, пародия на веру в смысл.
- «Солнце»
- У Фета — символ жизни, у Щербакова — маркер абсурда:
- «Расскажи, что солнце село…» → «Утром солнце как вставало, / Так до ночи не садилось».
- Герой Щербакова выполняет ритуал («рассказать о закате»), но солнце больше не вдохновляет — оно лишь подчёркивает монотонность.
- «Песня»
- У Фета песня «зреет» сама собой, как естественный порыв. У Щербакова пение — вынужденный жест, попытка удержаться в реальности:
- «Напевая “аллилуйя”» — этот рефрен звучит как заклинание, лишённое сакрального смысла.
- Финал
- Фет заканчивает стихотворение открыто, оставляя читателя в потоке жизни. Щербаков завершает цикл экзистенциальной мольбой:
- «Пусть меня мое мгновенье / У дверей твоих застанет» — но это «мгновенье» уже не фетовский восторг, а последняя попытка обрести опору перед лицом «черного ветра».
Стихотворение Щербакова — антитеза фетовскому гимну жизни. Если у Фета герой приходит, чтобы «рассказать о солнце», то у Щербакова — чтобы признать: солнце больше не светит, а «аллилуйя» произносится в пустоту.
Однако это не отрицание Фета, а горькая реплика из другого времени, где романтическая вера в гармонию разбивается о опыт XX–XXI веков. Разорванный круг, спираль, зигзаг — метафоры мира, утратившего центр. Даже память о том, «как ты пела», не спасает, но становится единственной нитью, связывающей героя с утраченным смыслом.
Фетовский восторг здесь — не опровергается, а ностальгически вспоминается как недостижимый идеал. «Аллилуйя» Щербакова — это крик поколения, которое, подобно Сизифу, продолжает катить камень вверх, зная, что он сорвётся. Но в этом жесте — и отчаяние, и странная надежда: вдруг «всемирные теченья» когда-нибудь приведут обратно к «истоку».
Прочитайте отрывок из статьи Игоря Резникова "Барды и не только". В чем видит автор особенность бардовской песни?
Михаил Константинович Щербаков
«Хочешь обратно деньги? Вот, изволь, получи с меня.
Но не казни артиста за то, что он себе самому не равен.
Этот шмель не летит – он исполняет полёт шмеля.
Этот столетник дня не живёт, но тем и забавен…»
Да простят господа прозаики, даже наделенные буйной творческой фантазией, но я придерживаюсь мнения, что в поэзии, музыке и живописи иррациональное начало сильнее рационального. В том смысле, что Поэт (Музыкант, Художник) вопреки своей воле обречен быть посредником между музыкой сфер (или, если кому угодно, Богом) и нами, простыми смертными. Он творит не столько осознанно, сколько СЛЫШИТ и ПЕРЕВОДИТ на доступный людям язык. А почему и как это у него получается, зачастую и сам не может знать. Да, пожалуй, и не должен. Неси свой крест и не думай о том, дар это божий или проклятье.
Первым, кто не вписался в мою логику, был Александр Аркадьевич Галич. До знакомства с его творчеством я и не думал, что натянутые рефлексией до предела душевные струны уже сами по себе способны рождать поэзию самой высокой пробы. Вторым поколебавшим мои «устои» выпало стать Михаилу Щербакову. Рискну предположить, что побудительным мотивом его творчества является не пресловутый «возврат долгов Богу», а вполне намеренные и осознанные игра воображения и ума. Ума ясного, неординарного, высокоорганизованного и философски настроенного. Впрочем, я в любом случае высказываю лишь свои частные соображения, никоим образом не претендующие на истину в последней инстанции. Кто угодно и сколько угодно может быть со мной не согласен. Хоть бы и сам Михаил Константинович, если допустить, что мой текст каким-либо случайным образом попадет ему на глаза.
Первые его выступления в Минске в 1988 и 1989 годах как-то прошли мимо меня. Имя 25-летнего московского парня, поющего под гитару свои песенки, мне ровным счетом ничего не говорило. Хотя, как позже выяснилось, он уже тогда был кумиром «продвинутого» московского студенчества. А через год я услышал пару песен в исполнении Сергея Алексеевича Филимонова (Фила) и очень заинтересовался. То есть опыт слушанья бардовской песни к тому времени у меня был изрядный, но ничего похожего ранее слыхать не доводилось. Фил принес записи обоих концертов, и я, по своему обыкновению, засел делать сборку понравившихся вещей. Чрезвычайно удивился, когда сборка не получилась! Такое со мной случилось впервые. При каждом новом прослушивании песни как бы расширялись в объеме и начинали обрастать новыми смыслами. Короче, переписал обе кассеты целиком.
Практически, сразу же обратила на себя внимание непривычно высокая концентрация значений и мыслей, изящество речевых оборотов и образов, уловить и оценить которые с первого прослушивания зачастую невозможно. Кто-то довольно образно, но точно сравнил его поэзию с китайской рисовой лапшой, которая, будучи брошенной в кипящую воду, способна многократно увеличиваться в объеме. Да и не совсем песни это были… То есть, их непременная атрибутика (мелодия, текст, гитара, пение) присутствовала, причём высокого качества, а в остальном же… Даже и не знаю, как в словах передать своё впечатление. Но постараюсь.
Я считаю песню самим демократичным видом творчества. Как по способу создания, так и по восприятию. Чтобы ее полюбить лично мне достаточно того, чтоб задевала в моей душе некие струны и создавала состояние внутренней эстетической гармонии. При том ее содержание отнюдь не является обязательным критерием оценки. Хотя убогость и безграмотность текста чаще всего создают дисгармонию, и тут уж ни о какой эстетике речь, понятное дело, не идет.
В случае Щербакова буквально всё было иначе. Если не песни, то – что? Тут очень по-разному. Это могли быть роман, даже эпос, а чаще небольшая повесть или рассказ-зарисовка. Баллада, романс, антреприза, шутка (редко). Да что угодно могло быть! Но непременно с глубоким содержанием и философским подтекстом. И расслабленно внимать подобным поэтически-музыкальным построениям никак не получалось. Автор бывал очень серьезен, даже когда иронизировал. Впрочем, скорее то была самоирония. Не случайно одну из своих песен он так и назвал: «Автопародия».
Правомерно ли говорить о творчестве Михаила Щербакова, как о поэзии? Безусловно. Но фокус в том, что он и не совсем поэт. То есть принадлежность его к поэтическому, как говорится, «цеху» не так однозначна. Однако и бардом его назвать я бы не рискнул (хотя это относительно близко), поскольку от привычных канонов авторской песни он далеко отошел еще в совсем юном возрасте. Лет, полагаю, в 18. В результате получился необычный и уж точно нетрадиционный жанр, который сам Щербаков предпочитает несколько обобщенно называть "стихотворно-музыкальным сочинительством". Тем не менее, точнее определить и я не берусь.
Автор не скрывает досады, когда отдельно рассматривают и оценивают прежде всего его поэзию, упуская из виду музыкальную составляющую песен. Его стихи от музыки совершенно неотделимы и в отрыве могут зачастую просто не запоминаться и даже не восприниматься. Для меня, всегда испытывавшего трудности с чтением стихов – так уж точно. Но на этом же, кстати, настаивает умница и эрудит Дмитрий Львович Быков, который, не скрывая своего восхищения, прямо называет Михаила Щербакова гением. Что для по обыкновению критически настроенного Быкова не совсем типично.
Еще сложнее рассуждать отдельно о его музыке. Хоть в его творениях раннего периода она зачастую и была очень красива сама по себе. Уверен, что многие из его композиций вполне могут жить самостоятельно. Впрочем, такой опыт у автора тоже был. В некоторые относительно поздние его диски включены чисто инструментальные обработки. И я бы не сказал, что это получилось плохо и не к месту. Поскольку как музыкант и композитор Щербаков также весьма интересен и неординарен.
Его мелодии могут быть просты и незатейливы, а могут вызывать восхищение красотой и сложностью гармонии. Твориться, что называется, «на трех аккордах» или просто задавать и поддерживать затейливый ритм так любимых им речитативов. Или как он сам их называет, «песенок-скороговорок». А иногда, – ну, надо же! – мелодии может совсем как бы и не быть. То есть, это когда без текста она теряет смысл до такой степени, что ни запомнить, ни воспроизвести ее невозможно. Вот как это? Однако из всего многообразия статей, посвященных исследованию его творчества, я помню только одну, обращенную непосредственно к музыке. Причем автор увидел в его музыке не только наличие, но даже и развитие джазовых традиций. Тут я спорить не стану: не специалист. Но что для меня совершенно очевидно, так это полная гармония музыки и стихов. Во всех без исключения произведениях и при огромном богатстве форм и тем!
Я, можно сказать, вырос на авторской песне. Люблю её с юности и до сих пор. Хотя давно уже чаще переслушиваю старые записи, чем слушаю новые. Да и есть ли они вообще, достойные новинки? За нынешними авторами слежу не слишком внимательно, хоть и радуюсь, когда доводится услышать нечто интересное и самобытное. Помнится, в одном из последних интервью Булату Шавловичу Окуджаве задали вопрос как раз по этому поводу. Он ответил в том смысле, что положение дел в современной авторской песне не внушает ему оптимизма, чтоб не сказать, что оно и вовсе унылое. Потом малость подумал и решил сделать исключение: «Щербаков!»(И.Резников)
«Хочешь обратно деньги? Вот, изволь, получи с меня.
Но не казни артиста за то, что он себе самому не равен.
Этот шмель не летит – он исполняет полёт шмеля.
Этот столетник дня не живёт, но тем и забавен…»
Да простят господа прозаики, даже наделенные буйной творческой фантазией, но я придерживаюсь мнения, что в поэзии, музыке и живописи иррациональное начало сильнее рационального. В том смысле, что Поэт (Музыкант, Художник) вопреки своей воле обречен быть посредником между музыкой сфер (или, если кому угодно, Богом) и нами, простыми смертными. Он творит не столько осознанно, сколько СЛЫШИТ и ПЕРЕВОДИТ на доступный людям язык. А почему и как это у него получается, зачастую и сам не может знать. Да, пожалуй, и не должен. Неси свой крест и не думай о том, дар это божий или проклятье.
Первым, кто не вписался в мою логику, был Александр Аркадьевич Галич. До знакомства с его творчеством я и не думал, что натянутые рефлексией до предела душевные струны уже сами по себе способны рождать поэзию самой высокой пробы. Вторым поколебавшим мои «устои» выпало стать Михаилу Щербакову. Рискну предположить, что побудительным мотивом его творчества является не пресловутый «возврат долгов Богу», а вполне намеренные и осознанные игра воображения и ума. Ума ясного, неординарного, высокоорганизованного и философски настроенного. Впрочем, я в любом случае высказываю лишь свои частные соображения, никоим образом не претендующие на истину в последней инстанции. Кто угодно и сколько угодно может быть со мной не согласен. Хоть бы и сам Михаил Константинович, если допустить, что мой текст каким-либо случайным образом попадет ему на глаза.
Первые его выступления в Минске в 1988 и 1989 годах как-то прошли мимо меня. Имя 25-летнего московского парня, поющего под гитару свои песенки, мне ровным счетом ничего не говорило. Хотя, как позже выяснилось, он уже тогда был кумиром «продвинутого» московского студенчества. А через год я услышал пару песен в исполнении Сергея Алексеевича Филимонова (Фила) и очень заинтересовался. То есть опыт слушанья бардовской песни к тому времени у меня был изрядный, но ничего похожего ранее слыхать не доводилось. Фил принес записи обоих концертов, и я, по своему обыкновению, засел делать сборку понравившихся вещей. Чрезвычайно удивился, когда сборка не получилась! Такое со мной случилось впервые. При каждом новом прослушивании песни как бы расширялись в объеме и начинали обрастать новыми смыслами. Короче, переписал обе кассеты целиком.
Практически, сразу же обратила на себя внимание непривычно высокая концентрация значений и мыслей, изящество речевых оборотов и образов, уловить и оценить которые с первого прослушивания зачастую невозможно. Кто-то довольно образно, но точно сравнил его поэзию с китайской рисовой лапшой, которая, будучи брошенной в кипящую воду, способна многократно увеличиваться в объеме. Да и не совсем песни это были… То есть, их непременная атрибутика (мелодия, текст, гитара, пение) присутствовала, причём высокого качества, а в остальном же… Даже и не знаю, как в словах передать своё впечатление. Но постараюсь.
Я считаю песню самим демократичным видом творчества. Как по способу создания, так и по восприятию. Чтобы ее полюбить лично мне достаточно того, чтоб задевала в моей душе некие струны и создавала состояние внутренней эстетической гармонии. При том ее содержание отнюдь не является обязательным критерием оценки. Хотя убогость и безграмотность текста чаще всего создают дисгармонию, и тут уж ни о какой эстетике речь, понятное дело, не идет.
В случае Щербакова буквально всё было иначе. Если не песни, то – что? Тут очень по-разному. Это могли быть роман, даже эпос, а чаще небольшая повесть или рассказ-зарисовка. Баллада, романс, антреприза, шутка (редко). Да что угодно могло быть! Но непременно с глубоким содержанием и философским подтекстом. И расслабленно внимать подобным поэтически-музыкальным построениям никак не получалось. Автор бывал очень серьезен, даже когда иронизировал. Впрочем, скорее то была самоирония. Не случайно одну из своих песен он так и назвал: «Автопародия».
Правомерно ли говорить о творчестве Михаила Щербакова, как о поэзии? Безусловно. Но фокус в том, что он и не совсем поэт. То есть принадлежность его к поэтическому, как говорится, «цеху» не так однозначна. Однако и бардом его назвать я бы не рискнул (хотя это относительно близко), поскольку от привычных канонов авторской песни он далеко отошел еще в совсем юном возрасте. Лет, полагаю, в 18. В результате получился необычный и уж точно нетрадиционный жанр, который сам Щербаков предпочитает несколько обобщенно называть "стихотворно-музыкальным сочинительством". Тем не менее, точнее определить и я не берусь.
Автор не скрывает досады, когда отдельно рассматривают и оценивают прежде всего его поэзию, упуская из виду музыкальную составляющую песен. Его стихи от музыки совершенно неотделимы и в отрыве могут зачастую просто не запоминаться и даже не восприниматься. Для меня, всегда испытывавшего трудности с чтением стихов – так уж точно. Но на этом же, кстати, настаивает умница и эрудит Дмитрий Львович Быков, который, не скрывая своего восхищения, прямо называет Михаила Щербакова гением. Что для по обыкновению критически настроенного Быкова не совсем типично.
Еще сложнее рассуждать отдельно о его музыке. Хоть в его творениях раннего периода она зачастую и была очень красива сама по себе. Уверен, что многие из его композиций вполне могут жить самостоятельно. Впрочем, такой опыт у автора тоже был. В некоторые относительно поздние его диски включены чисто инструментальные обработки. И я бы не сказал, что это получилось плохо и не к месту. Поскольку как музыкант и композитор Щербаков также весьма интересен и неординарен.
Его мелодии могут быть просты и незатейливы, а могут вызывать восхищение красотой и сложностью гармонии. Твориться, что называется, «на трех аккордах» или просто задавать и поддерживать затейливый ритм так любимых им речитативов. Или как он сам их называет, «песенок-скороговорок». А иногда, – ну, надо же! – мелодии может совсем как бы и не быть. То есть, это когда без текста она теряет смысл до такой степени, что ни запомнить, ни воспроизвести ее невозможно. Вот как это? Однако из всего многообразия статей, посвященных исследованию его творчества, я помню только одну, обращенную непосредственно к музыке. Причем автор увидел в его музыке не только наличие, но даже и развитие джазовых традиций. Тут я спорить не стану: не специалист. Но что для меня совершенно очевидно, так это полная гармония музыки и стихов. Во всех без исключения произведениях и при огромном богатстве форм и тем!
Я, можно сказать, вырос на авторской песне. Люблю её с юности и до сих пор. Хотя давно уже чаще переслушиваю старые записи, чем слушаю новые. Да и есть ли они вообще, достойные новинки? За нынешними авторами слежу не слишком внимательно, хоть и радуюсь, когда доводится услышать нечто интересное и самобытное. Помнится, в одном из последних интервью Булату Шавловичу Окуджаве задали вопрос как раз по этому поводу. Он ответил в том смысле, что положение дел в современной авторской песне не внушает ему оптимизма, чтоб не сказать, что оно и вовсе унылое. Потом малость подумал и решил сделать исключение: «Щербаков!»(И.Резников)

От первого барда 18 века - Сумарокова - до наших дней