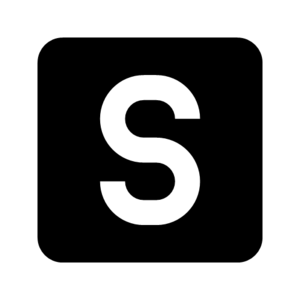Популярные стили
Урок с презентацией
Гоголь изображал в образах помещиков стили. Стили, которые пародирует Гоголь, выводя сатиру через внимание к ним "двух бесов" - Чичикова и Хлестакова.
Далее стили пародирует Виктор Пелевин. Вторая часть урока - о нем.
Далее стили пародирует Виктор Пелевин. Вторая часть урока - о нем.
Гоголь - сатирик, создатель пародий на популярные стили. Анализируя творчество Николая Васильевича, можно утверждать, что ему удалось создать уникальные пародии на различные литературные стили своего времени, которые, в свою очередь, находят отражение и в современной литературе.
Современен ли Гоголь? Да!
Пародия как литературный жанр предполагает искажение или преувеличение определённых стилевых особенностей с целью создания комического эффекта. Гоголю удалось не только пародировать конкретные стили, но и персонифицировать их в образах своих героев. Например, Ноздрёв олицетворяет приключенческую литературу с её буйным и задорным характером, Манилов — гламур с его мечтательностью и оторванностью от реальности, Коробочка — деревенскую прозу с её практичностью и приземлённостью, а Чичиков — авантюрный роман с его интригой и загадочностью.
Одним из ключевых понятий, которое будет рассмотрено на уроке, является «складка в складке». Это понятие может быть интерпретировано как многоуровневость и сложность структуры произведения, где каждый слой содержит скрытые смыслы и подтексты. В контексте «Мёртвых душ» это означает, что за внешней простотой повествования скрываются глубокие философские и социальные идеи.
Изучение различных стилей, использованных Гоголем, позволяет лучше понять не только его творчество, но и общие закономерности развития литературы того времени. Это, в свою очередь, способствует более глубокому анализу и интерпретации литературных произведений, а также развитию навыков критического мышления и восприятия текста
Изучение различных стилей, использованных Гоголем, позволяет лучше понять не только его творчество, но и общие закономерности развития литературы того времени. Это, в свою очередь, способствует более глубокому анализу и интерпретации литературных произведений, а также развитию навыков критического мышления и восприятия текста
Складка в складке, стиль в стиле. И все ложные, как один. В образе помещиков Гоголь показал своих конкурентов-писателей, один из которых ориентирован на запад и никогда ничего не доводит до конца - собирательный образ многих усадеб и стилей, открытых всем ветрам; другой как медведь топчется на просторах своего времени, третий как флюгер, куда ветер дует, там и он. Особенность популярных стилей в том, что они неживые, мертвые, потому они и нашли свое отражение в творчестве Гоголя, в его поэме «Мертвые души». Разумеется, такого рода стили: гламурные, стилизованные, упрощенные, эклектичные – не редкость и в наше время. Английский стиль в усадьбах русских помещиков- предмет осмеяния Пушкина и Гоголя - подразумевает роскошь, гламур. Представитель среди гоголевских помещиков - Манилов. В нем не ничего интересного, в прозе написанной Маниловыми, нет ни одного живого слова. Выставленные напоказ дорогие материи стульев, открытая книга, горки табаку, изящные буквы в списке мертвых душ - все это духовная пустота.
Также упоминается такой стиль как деревенская проза - простой и ничем непримечательный. Представитель деревенской прозы, имеющий довольно богатый словарный запас, ограничивается только деревенским языком той местности, в которой вырос.
Собакевич представитель топорного искусства, нашедший свое воплощение в скульптурах и фресках советского периода. Этот стиль отличается строгостью но стиль отличается изобилием. И, наконец, псевдодуховная литература. Ее представители похожи на отшельников один из таких Плюшкин, им свойственно не выделятся, но в отличии от дерзкого стиля Ноздрева в нем нет пустоты. Таким образом, в области ведения Чичикова-черта пять стилей: гламурный с длительными поцелуями, в английском стиле, победивший в киосках нашего времени - Манилов, деревенская проза - Коробочка, язык как у крестьянки, хотя сама дама; эклектика, простодушие в сочетании с дубиноголовостью.
Крутой с фишками и прибамбасами - но пустой - Ноздрев; он победитель в среде байкеров.
Монументальный как фрески советских работников, рубленые топорно - Собакевич, друг рабочих и крестьян, изобилие и прочность;
и духовная литература - Плюшкин - в его стиле рваные джинсы и советский общепит.
И стиль, Гоголем лишь угаданный, а Салтыковым-Щедриным описанный вскользь:
"А другой адвокат — Подковырник-Клещ, Иван Павлыч, Павла Иваныча Чичикова сын.
— Побочный тоже?
— Да. Помнишь, Чичиков у Коробочки-то ночевал? Ну вот, после того она и поприпухла… А впрочем, я этого Клеща и сам боюсь. Отец — пройдоха, мать дотошница; какому уж тут плоду быть!"
Стиль "Подковырника-Клеща"- искусство тонких линий - коварных паутинок.
Также упоминается такой стиль как деревенская проза - простой и ничем непримечательный. Представитель деревенской прозы, имеющий довольно богатый словарный запас, ограничивается только деревенским языком той местности, в которой вырос.
Собакевич представитель топорного искусства, нашедший свое воплощение в скульптурах и фресках советского периода. Этот стиль отличается строгостью но стиль отличается изобилием. И, наконец, псевдодуховная литература. Ее представители похожи на отшельников один из таких Плюшкин, им свойственно не выделятся, но в отличии от дерзкого стиля Ноздрева в нем нет пустоты. Таким образом, в области ведения Чичикова-черта пять стилей: гламурный с длительными поцелуями, в английском стиле, победивший в киосках нашего времени - Манилов, деревенская проза - Коробочка, язык как у крестьянки, хотя сама дама; эклектика, простодушие в сочетании с дубиноголовостью.
Крутой с фишками и прибамбасами - но пустой - Ноздрев; он победитель в среде байкеров.
Монументальный как фрески советских работников, рубленые топорно - Собакевич, друг рабочих и крестьян, изобилие и прочность;
и духовная литература - Плюшкин - в его стиле рваные джинсы и советский общепит.
И стиль, Гоголем лишь угаданный, а Салтыковым-Щедриным описанный вскользь:
"А другой адвокат — Подковырник-Клещ, Иван Павлыч, Павла Иваныча Чичикова сын.
— Побочный тоже?
— Да. Помнишь, Чичиков у Коробочки-то ночевал? Ну вот, после того она и поприпухла… А впрочем, я этого Клеща и сам боюсь. Отец — пройдоха, мать дотошница; какому уж тут плоду быть!"
Стиль "Подковырника-Клеща"- искусство тонких линий - коварных паутинок.
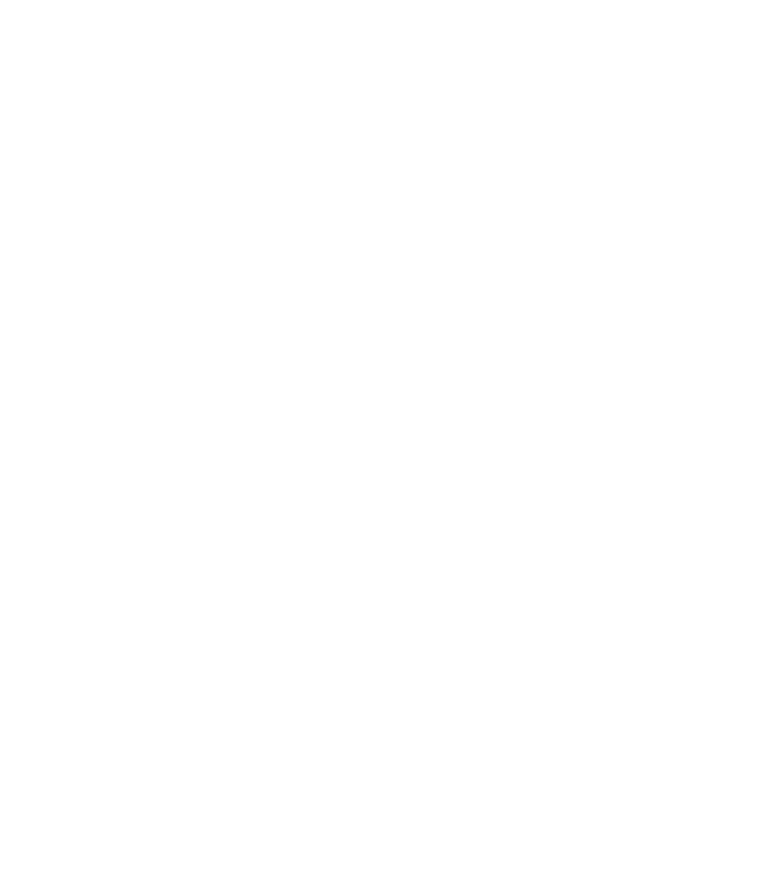
Урок литературы о стилях Гоголя
На уроке «Популярные стили» с литературоведом Ольгой Чернорицкой вы погрузитесь в анализ разнообразных стилистических приёмов, использованных Гоголем в «Мёртвых душах». Вы изучите, как автор мастерски сочетает различные стилистические направления, создавая многогранный и глубокий художественный мир.

Стиль Ноздрева в реторанчиках фастфуда. В его ведении - приключенческая литература. Исторический человек - исторический писатель.
Ноздрёв - человек-история, приключенческая, историческая литература, ещё не совсем мёртвая душа, но весьма неразборчивая. Он завлекает читателя своей яркостью, развязностью, выходом за рамки. Такой тип литературы сначала кажется интересным и привлекательным, за него берутся все, кому не лень, как Ноздрёв, заводящий дружбу со всеми. Но потом такие истории часто подвергаются оспариванию со стороны читателей, критике и сомнениями, так же, как и этот развязный помещик, поколачиваемый собственными "друзьями". Несмотря на это, писатели этого жанра легко переступают через это и уже скоро выводят в свет новое произведение. В нём они вновь смешивает всё и сразу, стараясь показать всё, что успело родиться в их голове, как еду, которой Ноздрёв угощает своих гостей, пытаясь угодить всем, а сам же не особенно разбираясь в том, что ест.
Ноздрёв - не совсем ещё мёртвая душа, но его склонность к вранью и пакостям ставит его на путь умирающего души. Он не интересуется ничем, кроме своих азартных игр, кутежей и сплетен. Ноздревского типа писатель завлекает читателя своей яркостью, развязностью, выходом за рамки, кажущейся новизной и кажущейся широкой душой. Такой тип литературы сначала кажется интересным и привлекательным, за него берутся все, кому не лень, как Ноздрёв, заводящий дружбу со всеми. Но тут же между своими учиняются скандалы, заканчивающиеся попойками. Кто побывает в среде Ноздрева и выйдет оттуда живым, - явно не мертвая душа.
Ноздрёв - не совсем ещё мёртвая душа, но его склонность к вранью и пакостям ставит его на путь умирающего души. Он не интересуется ничем, кроме своих азартных игр, кутежей и сплетен. Ноздревского типа писатель завлекает читателя своей яркостью, развязностью, выходом за рамки, кажущейся новизной и кажущейся широкой душой. Такой тип литературы сначала кажется интересным и привлекательным, за него берутся все, кому не лень, как Ноздрёв, заводящий дружбу со всеми. Но тут же между своими учиняются скандалы, заканчивающиеся попойками. Кто побывает в среде Ноздрева и выйдет оттуда живым, - явно не мертвая душа.
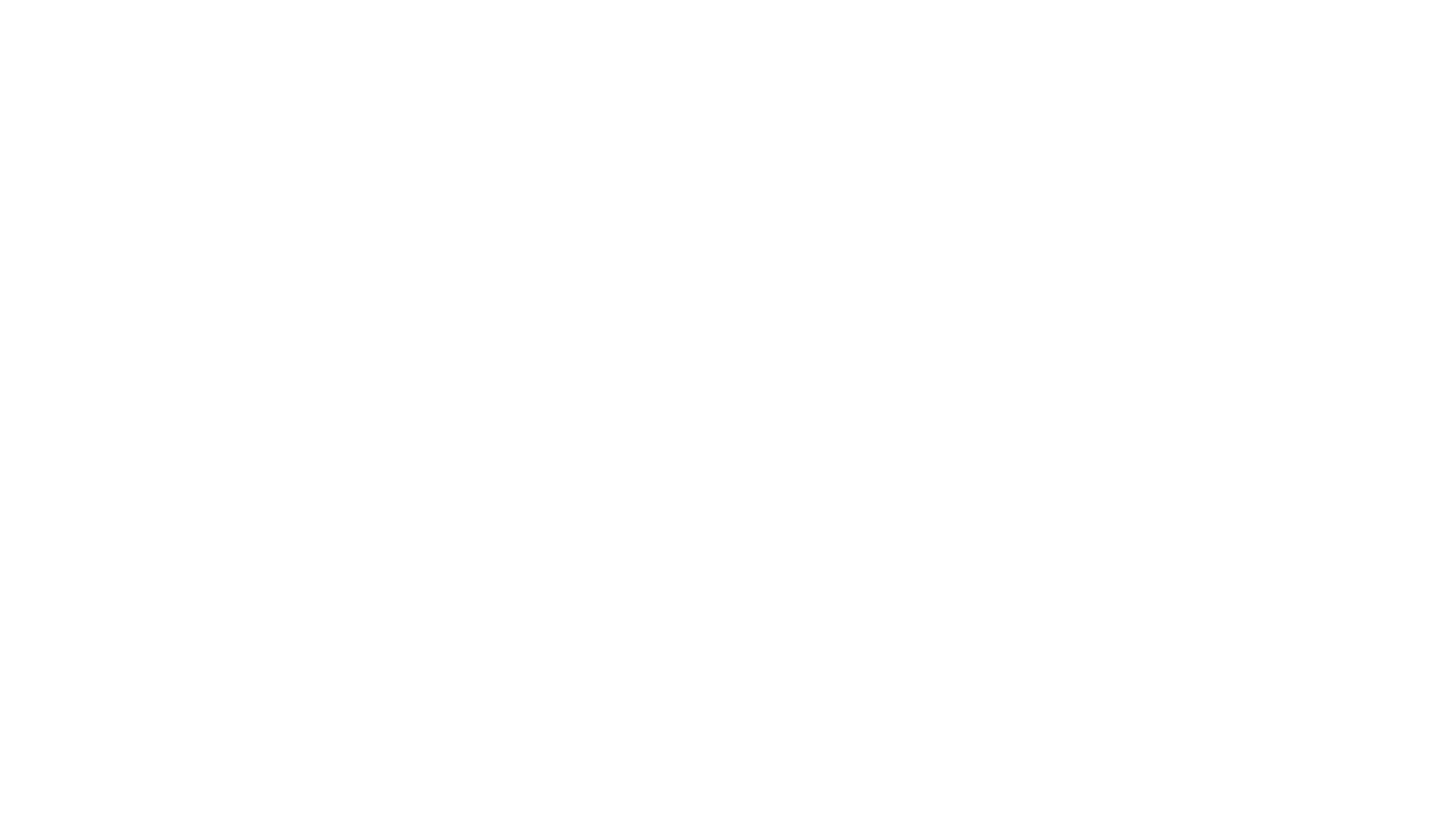
Стиль Ноздрева в живописи.
Представитель гламура среди гоголевских помещиков - Манилов. Возможно, Гоголь имел ввиду под ним сентиментализм или романтизм. В нем не ничего интересного, в прозе написанной Маниловыми, нет ни одного живого слова. В стихах- слащавость. Выставленные напоказ дорогие материи стульев, открытая книга, горки табаку, изящные буквы в списке мертвых душ - все это духовная пустота.
Любой гламурный журнал можно назвать "заманиловкой". Он манит своей внешней оболочкой, это реклама. "Открытый всем ветрами дом" Манилова представляет собой поверхностный род литературы, открытый всем течениям, но освещающий их не глубоко. Пейзаж в английском стиле говорит о желании следовать новомодным западным течениям, приживающемся плохо, как деревья в саду Манилова. Пафосные надписи, открытые умные книги говорят о желании выставить напоказ внутренний мир, которого, по сути, нет. Манилов представляет образ автора заискивающего перед читателем, ищущего его расположения. Вечная улыбка - обходительность, деликатность, высокий стиль, мечтательность, за которой ничего нет. Вспоминается Грушницкий у Лермонтова. Но читатель, как правило, не любит такую литературу, и она быстро надоедает ему. От Манилова не дождёшься содержательности и наблюдательности.
Любой гламурный журнал можно назвать "заманиловкой". Он манит своей внешней красотой, но не несёт существенного смысла. "Открытый всем ветрами дом" Манилова представляет собой поверхностный род литературы, открытый всем течениям, но освещающий их не глубоко. Пейзаж в английском стиле говорит о желании следовать новомодным западным течениям, приживающемся плохо, как деревья в саду Манилова. Пафосные надписи, открытые умные книги говорят о желании выставить напоказ внутренний мир, которого, по сути, нет. Манилов представляет образ автора заискивающего перед читателем, ищущего его расположения. Но читатель, как правило, не любит такую литературу, и она быстро надоедает ему. От Манилова не дождёшься умных или даже заносчивых слов, что говорит о том, что внутри него нет ничего культурного и высоконравственного.
Доказательством того, что Манилов - мёртвая душа, служит то, что даже чёрт в лице Чичикова сбегает от него, не желая даже переночевать в этом мёртвом царстве.
Любой гламурный журнал можно назвать "заманиловкой". Он манит своей внешней оболочкой, это реклама. "Открытый всем ветрами дом" Манилова представляет собой поверхностный род литературы, открытый всем течениям, но освещающий их не глубоко. Пейзаж в английском стиле говорит о желании следовать новомодным западным течениям, приживающемся плохо, как деревья в саду Манилова. Пафосные надписи, открытые умные книги говорят о желании выставить напоказ внутренний мир, которого, по сути, нет. Манилов представляет образ автора заискивающего перед читателем, ищущего его расположения. Вечная улыбка - обходительность, деликатность, высокий стиль, мечтательность, за которой ничего нет. Вспоминается Грушницкий у Лермонтова. Но читатель, как правило, не любит такую литературу, и она быстро надоедает ему. От Манилова не дождёшься содержательности и наблюдательности.
Любой гламурный журнал можно назвать "заманиловкой". Он манит своей внешней красотой, но не несёт существенного смысла. "Открытый всем ветрами дом" Манилова представляет собой поверхностный род литературы, открытый всем течениям, но освещающий их не глубоко. Пейзаж в английском стиле говорит о желании следовать новомодным западным течениям, приживающемся плохо, как деревья в саду Манилова. Пафосные надписи, открытые умные книги говорят о желании выставить напоказ внутренний мир, которого, по сути, нет. Манилов представляет образ автора заискивающего перед читателем, ищущего его расположения. Но читатель, как правило, не любит такую литературу, и она быстро надоедает ему. От Манилова не дождёшься умных или даже заносчивых слов, что говорит о том, что внутри него нет ничего культурного и высоконравственного.
Доказательством того, что Манилов - мёртвая душа, служит то, что даже чёрт в лице Чичикова сбегает от него, не желая даже переночевать в этом мёртвом царстве.

Гламурный стиль Манилова
Также упоминается такой стиль как деревенская проза - простой и ничем непримечательный. Представитель деревенской прозы, имеющий довольно богатый словарный запас, ограничивается только деревенским языком той местности, в которой вырос. Коробочка не знает никого вокруг, ограничивается только людьми из своей деревни или другими, никому не известными помещиками, что ещё раз помогает читателю узнать в помещице современников, коллег Гоголя по перу, такие писатели могут ничего не знать о больших писателях - им интересен их узкий литературный мирок. Все выделано под лубок с эклектикой, сочетающей обои в полоску и райских птиц, но главное в нем – спрятанные за всеми этими картинками чулки с деньгами. Зачем носить чулки, если это хороший кошелек? Его представители тихие не хотят ничем выделятся именно поэтому коробочки не смотря на дворянское происхождение не одевается и не живет как барыня. Это стиль с педалированием на набожность и простоту, которая, как известно, хуже воровства. Часов она не наблюдает.

Стиль Коробочки
Коробочка - несмотря на богатство, живёт бедно, копит ради того, чтобы копить. Стиль деревенской прозы, язык деревенских крестьян, автор типа коробочки использует его, хотя имеет большой словарный запас и средства, чтобы писать. Скупой стиль, что можно увидеть по заложенным за зеркала чулкам с деньгами, на которые можно было купить многое, но Коробочка предпочитает оставаться в своём тихом, стареньком, деревенском домике. Сестра ее - городской бульварный роман, ничуть не богаче духовно, хоть и пользуется популярностью в обществе. Представитель деревенской прозы, имеющий большой словарный запас, но ограничивающиеся только деревенским языком той местности, в которой вырос. Коробочка не знает никого вокруг, ограничивается только людьми из своей деревни или другими, никому не известными помещиками, что ещё раз помогает читателю узнать в помещице современников, коллег Гоголя.
Доказательством того, что Коробочка - мёртвая душа, служит описание имений помещицы. Большой двор и маленький домик аккуратный и крепкий, но повсюду мухи, которые у Гоголя всегда сопутствуют, застывшему, остановившемуся, мёртвому внутреннему миру.
Доказательством того, что Коробочка - мёртвая душа, служит описание имений помещицы. Большой двор и маленький домик аккуратный и крепкий, но повсюду мухи, которые у Гоголя всегда сопутствуют, застывшему, остановившемуся, мёртвому внутреннему миру.


Рваный стиль Плюшкина.
Плюшкин - рваный стиль, духовная литература, стремящаяся к прошлому, собирающая всё обрывками. Все его старинные вещи остались от кого-то, и он бережно хранит их, собирая свою историю по частям, по маленьким кусочкам. Заваленный старыми вещами дом, неухоженный сад Плюшкина - это места, хранящие в себе историю. Лишь на первый взгляд они кажутся отвратительным, заброшенными, но Гоголь описывает их, как эстетичные, хрупкие миры, которые открывают завесу прошлого, помогая читателю окунуться в историю. Даже остановившиеся часы в груде хлама сохраняют на себе время какого-то события, которому не суждено повториться. Стиль литературы Плюшкина понятен не всем, истории, написанные в его стиле, зачастую имеют открытый финал, давая читателю самому додумать смысл. Также этому стилю свойственно не хронологическое повествование, которое часто может запутать читателя.
Доказательством того, что Плюшкин - мёртвая душа, является то, что его жизни становится похожа на день сурка. Его скосили жизненные трудности, и он перестал, быть человеком, похоронил себя в старых вещах, застрял в прошлом, без возможности выбраться назад.
Плюшкин — это не просто персонаж, это целая вселенная, погруженная в рваный стиль и духовную литературу, которая стремится к прошлому, собирая обрывки жизни. Его дом, заваленный старыми вещами, и неухоженный сад — это не просто запустение, а хранилище истории, где каждая вещь хранит в себе память о ком-то, кто жил до нас.
На первый взгляд, эти места кажутся отвратительными и заброшенными, но Гоголь умело описывает их как эстетичные, хрупкие миры, которые открывают завесу прошлого. Здесь, среди груды хлама, даже остановившиеся часы продолжают хранить мгновение какого-то события, которому не суждено повториться.
Стиль литературы Плюшкина — это загадка, понятная не всем. Его истории часто имеют открытый финал, оставляя читателя наедине с собственными мыслями и интерпретациями. Это приглашение задуматься, почувствовать и увидеть глубину в том, что на первый взгляд может показаться лишь беспорядком.
Плюшкин — это не просто сборище старинных вещей, это зеркало нашей души, отражающее страхи и надежды, воспоминания и мечты. Давайте откроем эту завесу вместе и погрузимся в мир, который хранит в себе все тайны прошлого.
На первый взгляд, эти места кажутся отвратительными и заброшенными, но Гоголь умело описывает их как эстетичные, хрупкие миры, которые открывают завесу прошлого. Здесь, среди груды хлама, даже остановившиеся часы продолжают хранить мгновение какого-то события, которому не суждено повториться.
Стиль литературы Плюшкина — это загадка, понятная не всем. Его истории часто имеют открытый финал, оставляя читателя наедине с собственными мыслями и интерпретациями. Это приглашение задуматься, почувствовать и увидеть глубину в том, что на первый взгляд может показаться лишь беспорядком.
Плюшкин — это не просто сборище старинных вещей, это зеркало нашей души, отражающее страхи и надежды, воспоминания и мечты. Давайте откроем эту завесу вместе и погрузимся в мир, который хранит в себе все тайны прошлого.
Плюшкин являет собой образ монашеского аскетизма.
Собакевич: монументальный символ неизменности и грубости
В мире литературы он стоит, как неповоротливый медведь – Собакевич. Его стиль, словно массивный памятник, сочетает в себе минимализм и яркую узнаваемость. Все в его доме и дворе говорит о жесткости и мужиковатости, о том, что он не приемлет перемен.
Собакевич – это не просто персонаж, это воплощение стабильности, к которому тянутся его преданные читатели, как мужики к своему помещику. Его произведения, как и его дом, просты и основательны, но в них скрыто нечто глубинное. 📚
Стиль Собакевича выделяется своей краткостью, но именно в этой краткости кроется его сила. Как сараи и кухни помещика, его литература становится классикой, которая будет держать читателя в своих объятиях на протяжении веков.
Но за этим величием скрывается страх перемен. Собакевич боится нового, как огня, и отвергает обучение и медицину. Его душа, увы, мертва, и чтобы что-то изменить, нужен порыв, которого у него нет.
Собакевич – это не просто мёртвая душа, это символ вечного страха перед переменами, который будет жить в сердцах читателей, напоминающий нам о том, что иногда стабильность – это лишь иллюзия.
Стиль Собакевича - минимализм, прочность, основательность. Он - богатырь, но в мирное время, без назначения воевать с врагом, становится олицетворения поглощения, жадности и чревоугодия.
Собакевич - монументальный, минималистический, хорошо узнаваемый стиль. Рубящий с плеча, большой, неповоротливый, словно медведь, Собакевич является ярким представителем простого и точного стиля. Всё в его доме и дворе указывает на его грубость и мужиковатость. Тем не менее, благодаря этому, Собакевич может рассчитывать на стабильность. У писателей стиля Собакевича есть преданные читатели, как у самого помещика - его мужики. На этот стиль всегда найдётся ценитель, который сможет разглядеть в таких произведениях что-то глубокое. Стиль Собакевича не красен длинными описаниями и лирическими отступлениями, зачастую он выделяется своей краткостью и основательностью.
Все эти характеристики подходят и дому Собакевича. "Двор окружен был крепкою и непомерно толстою деревянною решеткой. Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшни, сараи и кухни были употреблены полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние" - так описывает имение Собакевича Гоголь. Так же, как и сараи и кухни помещика, литература его стиля становится классикой и держит читателя многие века.
Доказательством того, что Собакевич - мёртвая душа служит то, что он боится перемен. Всё новое кажется ему опасным и губящим, он против обучения и медицины. Чтобы что-то изменить, нужен порыв души, а у этого героя она мертва.
Собакевич - монументальный, минималистический, хорошо узнаваемый стиль. Рубящий с плеча, большой, неповоротливый, словно медведь, Собакевич является ярким представителем простого и точного стиля. Всё в его доме и дворе указывает на его грубость и мужиковатость. Тем не менее, благодаря этому, Собакевич может рассчитывать на стабильность. У писателей стиля Собакевича есть преданные читатели, как у самого помещика - его мужики. На этот стиль всегда найдётся ценитель, который сможет разглядеть в таких произведениях что-то глубокое. Стиль Собакевича не красен длинными описаниями и лирическими отступлениями, зачастую он выделяется своей краткостью и основательностью.
Все эти характеристики подходят и дому Собакевича. "Двор окружен был крепкою и непомерно толстою деревянною решеткой. Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшни, сараи и кухни были употреблены полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние" - так описывает имение Собакевича Гоголь. Так же, как и сараи и кухни помещика, литература его стиля становится классикой и держит читателя многие века.
Доказательством того, что Собакевич - мёртвая душа служит то, что он боится перемен. Всё новое кажется ему опасным и губящим, он против обучения и медицины. Чтобы что-то изменить, нужен порыв души, а у этого героя она мертва.
Лекция о "Женитьбе" Гоголя
«Женитьба» Гоголя: сатира на какие литературные стили и явления?
Пьеса Николая Гоголя «Женитьба» (1842) — яркий пример сатиры, направленной против шаблонов романтической драматургии, единства времени, места, мещанской литературы и внецерковного, языческого формализма при сватовстве. Гоголь высмеивает не столько конкретный стиль, сколько литературные клише, социальные стереотипы и легкость в подходе к теме брака и человеческих отношений. Лейтмотив - до мясоеда еще далеко. Подколесина некая фантасмагорическая сущность, вселившаяся в его друга при поминании черта, пытается немедленно женить в пост, в один день - до крика первых петухов. Разберем ключевые объекты сатиры:
1. Пародия на романтические штампы
Гоголь не просто высмеивает литературные стили — он разрушает иллюзии о человеческой природе. Его сатира направлена на:
Гоголь критикует не романтизм как направление, а его вульгаризацию в массовой литературе. Его цель — показать, как возвышенные идеи превращаются в фарс, когда сталкиваются с реальностью.
Вывод
«Женитьба» — это сатира на:
Пьеса Николая Гоголя «Женитьба» (1842) — яркий пример сатиры, направленной против шаблонов романтической драматургии, единства времени, места, мещанской литературы и внецерковного, языческого формализма при сватовстве. Гоголь высмеивает не столько конкретный стиль, сколько литературные клише, социальные стереотипы и легкость в подходе к теме брака и человеческих отношений. Лейтмотив - до мясоеда еще далеко. Подколесина некая фантасмагорическая сущность, вселившаяся в его друга при поминании черта, пытается немедленно женить в пост, в один день - до крика первых петухов. Разберем ключевые объекты сатиры:
1. Пародия на романтические штампы
- Идеализация чувств vs. расчет:
- Романтизм 1830-х годов часто изображал любовь как возвышенное, фатальное чувство. Гоголь же показывает брак как сделку, где герои руководствуются не эмоциями, а меркантильными интересами. Подколесин бегает от невесты, Агафья Тихоновна выбирает жениха по списку качеств («Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича…»), а Кочкарёв превращает сватовство в авантюру.
- Абсурд вместо пафоса: в день великого поста свадьба.
- Диалоги персонажей наполнены комической нелепостью (например, монолог Агафьи Тихоновны о женихах), что пародирует патетику романтических пьес.
- «Комедия нравов» без нравственности:
- Гоголь издевается над популярными в его время пьесами о семейной жизни, где конфликты сводились к поверхностным ссорам. В «Женитьбе» нет ни положительных героев, ни морализаторства — только типичные пороки: трусость, лицемерие, алчность.
- Быт как театр абсурда:
- Персонажи напоминают марионеток, чьи поступки лишены логики. Это пародия на мелодрамы, где герои действовали по шаблонам: «влюблённый герой», «коварный соперник», «благородная невеста».
- Языковая пародия:
- Речь персонажей переполнена канцеляризмами («извольте видеть», «сделайте одолжение»), что высмеивает засилье формального стиля даже в личных отношениях.
- Брак как бюрократическая процедура, руководимая фантасмагорическим лицом:
- Сватовство превращается в деловые переговоры (сцена с Яичницей, требующим «порядка» в приданом), что отсылает к чиновничьей рутине, знакомой Гоголю по «Ревизору».
Гоголь не просто высмеивает литературные стили — он разрушает иллюзии о человеческой природе. Его сатира направлена на:
- Социальные мифы: идея брака как «судьбоносного выбора» разбивается о мелочность героев.
- Лицемерие общества: персонажи носят маски благопристойности, но под ними скрываются страх и глупость.
Гоголь критикует не романтизм как направление, а его вульгаризацию в массовой литературе. Его цель — показать, как возвышенные идеи превращаются в фарс, когда сталкиваются с реальностью.
Вывод
«Женитьба» — это сатира на:
- Романтические клише в изображении любви и брака;
- Мещанскую драматургию, подменяющую глубину бытовыми деталями;
- Формализм языка и отношений;
- Лицемерие общества, прячущего пороки за ритуалами и штампами.
Каждый жених как «складка реальности»: интерпретация через призму гоголевского метода
В пьесе «Женитьба» женихи действительно могут быть рассмотрены как отдельные «складки» реальности, каждая из которых отражает не только социальные типажи, но и экзистенциальные противоречия. Гоголь использует их как многослойные символы, раскрывающие абсурдность человеческих претензий на рациональность в мире, где царит страх и самообман.
Почему женихи — это «складки»?
Гоголь сталкивает женихов в комических ситуациях, чтобы показать:
Если рассматривать женихов как «складки», то пьеса становится притчей о невозможности подлинного выбора в мире симулякров. Гоголь показывает:
В пьесе «Женитьба» женихи действительно могут быть рассмотрены как отдельные «складки» реальности, каждая из которых отражает не только социальные типажи, но и экзистенциальные противоречия. Гоголь использует их как многослойные символы, раскрывающие абсурдность человеческих претензий на рациональность в мире, где царит страх и самообман.
Почему женихи — это «складки»?
- Каждый персонаж — воплощение социального штампа:
- Яичница (Степан Иванович) — «складка бюрократии». Его подход к браку как к сделке («порядок в приданом!») пародирует чиновничий формализм. Он не видит в браке ничего, кроме расчёта, превращая отношения в документооборот.
- Анучкин — «складка ложного аристократизма». Его претензии на изысканность («я люблю образованных девиц!») скрывают невежество. Он имитирует культуру, как имитируют её в мещанской среде.
- Жевакин — «складка мелочности». Его интерес к приданому («а перины будут пуховые?») обнажает торгашеский дух, где даже любовь измеряется материальной выгодой.
- Подколесин — «складка экзистенциального страха». Его бегство из окна — не просто комический финал, а метафора ухода от выбора, от необходимости стать взрослым.
- Складки как слои абсурда:
- Каждый жених добавляет новый уровень нелепости, но за этим скрывается трагедия несостоявшегося диалога. Их монологи — это разговор глухих: они говорят о браке, но не слышат друг друга. Это отражает разобщённость людей, запертых в своих социальных ролях.
Гоголь сталкивает женихов в комических ситуациях, чтобы показать:
- Иллюзию выбора: Агафья Тихоновна, выбирая жениха по списку качеств, на самом деле не выбирает никого. Все варианты равноценно абсурдны.
- Кризис коммуникации: Диалоги женихов напоминают перекрёстный допрос, где каждый говорит о своём, не слушая других. Это пародия на «переговоры» в обществе, лишённом искренности.
- Смерть индивидуальности: Женихи — не люди, а функции (чиновник, франт, скряга). Их «складки» сливаются в единое полотно социальной маскировки.
Если рассматривать женихов как «складки», то пьеса становится притчей о невозможности подлинного выбора в мире симулякров. Гоголь показывает:
- Реальность как набор масок: Каждый жених играет роль, предписанную его статусом.
- Бегство от себя: Даже Подколесин, который кажется «нерешительным», на деле — человек, отрицающий собственную свободу. Его побег — это отказ от попытки стать собой.
- Поверхностный слой: Смешные недоразумения, гротескные диалоги.
- Глубинный слой: Трагедия человека, который не может вырваться из системы ложных ценностей. Женихи — это части системы, а их «складки» образуют лабиринт, из которого нет выхода.
Контрасты и складки у Бунина и у Гоголя
Концепция “складки” (plis) становится ключевым аспектом для понимания многослойности реальности, в которую погружены герои Бунина и Гоголя.
Петербург в изображении Бунина — это не просто город, это многослойная симфония, где каждая «складка» раскрывает новые оттенки Северной столицы, и когда происходит это раскрытие одна реальность накладывается на другую. Каждое мгновение, каждое событие в этом городе словно накладывается друг на друга, образуя сложный узор жизни: радость и горе переплетаются, а время сливается в единое целое.
В рассказе И.А. Бунина «Старуха» мы вновь и вновь возвращаемся к главной героине, чья жизнь становится лейтмотивом всей истории. Ее плач, слезы, льющиеся ручьем, словно возвращают нас к началу, к той самой «складке», с которой всё началось. Бунин мастерски управляет временем и пространством, заставляя читателя чувствовать, как картины могут стремительно сменять друг друга или плавно перетекать .
Каждая «складка» — это не только форма, но и метафора многослойности реальности, в которой мы живем. Петербург, как и жизнь, полон неожиданностей и глубины. Мы погружаемся в его атмосферу, и каждый раз, разворачивая новую «складку», открываем для себя что-то удивительное, подчас пугающее, как счастливые судьбы перекрещиваются с несчастными..
Интересно, как Иван Бунин мастерски использует метод «складка в складке», вводя в свои произведения внесюжетных героев, словно случайно упоминая их трагические судьбы. Судьбы мальчика-сироты, отца, потерявшего четырех сыновей, и богатых людей переплетаются с плачем старухи, создавая мощный эмоциональный фон.
Слезы старухи становятся символом общечеловеческого горя, которое пронизывает жизнь Петербурга. Здесь, среди великолепной архитектуры и талантливых людей, скрываются несчастья, о которых мы, читатели, можем только догадываться. Мы задумываемся: чье сердце болит сильнее? Чья история более трагична?
На фоне святочных радостей и послевоенных бед горе старухи теряет свою уникальность, становится обыденным, привычным. Автор, словно невзначай, открывает нам душу и жизни других людей, когда старуха сидит на кухне, и «рекой льется».
Петербург — это не просто город. Это место, где каждый уголок хранит свои тайны, где радость и печаль переплетаются, создавая уникальную атмосферу. Мы живем среди контрастов, и это делает нашу жизнь такой насыщенной и многогранной.
И сам автор словно сгибает складку за складкой ленты своего повествования, нагнетает обстановку. Сперва он рисует мрачный пейзаж, за счет него он раскрывает настроение города и его жителей: на улице «святочная метель…стала мутно синеть», «в доме темнело». Темное время года, тихо, от чего и страшно, и таинственно. После рассказчик передает хмурую, унылую обстановку дома, где живет старуха: «мертвые листья сухого тропического растения», «больная тропическая птичка». Однако все события раскрываются во время христианского праздника – Святок. Казалось бы, люди должны радоваться, собираться вместе, отдыхать. Бунин создает еще один контраст: праздник противопоставляется бедам людей.
Вихрь судьбы и человеческих страстей, закутанный в «складку в складке» — этот метод, унаследованный И.А. Буниным от Н.В. Гоголя, раскрывает бездну человеческой природы и социального устройства. В «Мертвых душах» Чичиков, словно теневой маневрирующий игрок, перемещается из одного поместья в другое, и каждая «складка» его пути — это новая возможность, новый потенциальный «продавец». В отличие от статичной старухи он динамичен, все происходит последовательно во времени, у Бунина - одновременно.
Манилов, Коробочка, Ноздрёв, Собакевич, Плюшкин — каждый из них, как персонажи мрачной комедии, олицетворяет контраст между хозяйственностью и запустением. Гоголь мастерски играет с этими противоположностями: один помещик — образец порядка и заботы, другой — полное безразличие к своему имению. И в этом контрасте открывается истинная суть человеческой натуры, где выгода становится единственным двигателем.
Стиль домов помещиков, как отражение их внутреннего мира, тоже полон контрастов. Каждый дом — это не просто строение, а символ жизни, которая в нем протекала. Гоголь показывает, как в каждом из них скрыта история, а за каждой «складкой» прячется новая драма.
Так, метод «складка в складке» становится не просто приемом, а глубинным исследованием человеческой души, её противоречий и поисков. Чичиков — это не просто ловкий мошенник, а отражение всей нашей жизни, полной надежд и разочарований. В этом драматическом путешествии мы видим, как легко можно потерять себя в поисках выгоды, забыв о том, что истинная ценность — это не в материальном, а в человеческом.
В мире, где мечты Манилова растворяются в безбрежных размышлениях, а забота о поместье уходит на второй план, мы встречаем Коробочку – настоящую хозяйку, знающую каждую крестьянскую душу поименно. Она не просто владелица, она – сердце своего поместья, в котором порядок и трудолюбие царят над мечтами и иллюзиями.
Но вот Чичиков, наш странствующий искатель, попадает к Ноздреву. И что он видит? Гадкая дорога ведет к разваливающемуся поместью, где хаос и разгул правят балом. Здесь контраст становится ярче, чем когда-либо: поместье Собакевича, с его массивными стенами и надежными основами, словно олицетворяет реализм, противостоящий безумному модернизму Ноздрева.
Эти переходы от разрушения к стабильности, от хаоса к порядку, словно петли, связывают судьбы героев, заставляя нас задуматься о том, что действительно важно в жизни. Абсурд сменяется рациональностью.
В рассказе И.А. Бунина «Старуха» мы вновь и вновь возвращаемся к главной героине, чья жизнь становится лейтмотивом всей истории. Ее плач, слезы, льющиеся ручьем, словно возвращают нас к началу, к той самой «складке», с которой всё началось. Бунин мастерски управляет временем и пространством, заставляя читателя чувствовать, как картины могут стремительно сменять друг друга или плавно перетекать .
Каждая «складка» — это не только форма, но и метафора многослойности реальности, в которой мы живем. Петербург, как и жизнь, полон неожиданностей и глубины. Мы погружаемся в его атмосферу, и каждый раз, разворачивая новую «складку», открываем для себя что-то удивительное, подчас пугающее, как счастливые судьбы перекрещиваются с несчастными..
Интересно, как Иван Бунин мастерски использует метод «складка в складке», вводя в свои произведения внесюжетных героев, словно случайно упоминая их трагические судьбы. Судьбы мальчика-сироты, отца, потерявшего четырех сыновей, и богатых людей переплетаются с плачем старухи, создавая мощный эмоциональный фон.
Слезы старухи становятся символом общечеловеческого горя, которое пронизывает жизнь Петербурга. Здесь, среди великолепной архитектуры и талантливых людей, скрываются несчастья, о которых мы, читатели, можем только догадываться. Мы задумываемся: чье сердце болит сильнее? Чья история более трагична?
На фоне святочных радостей и послевоенных бед горе старухи теряет свою уникальность, становится обыденным, привычным. Автор, словно невзначай, открывает нам душу и жизни других людей, когда старуха сидит на кухне, и «рекой льется».
Петербург — это не просто город. Это место, где каждый уголок хранит свои тайны, где радость и печаль переплетаются, создавая уникальную атмосферу. Мы живем среди контрастов, и это делает нашу жизнь такой насыщенной и многогранной.
И сам автор словно сгибает складку за складкой ленты своего повествования, нагнетает обстановку. Сперва он рисует мрачный пейзаж, за счет него он раскрывает настроение города и его жителей: на улице «святочная метель…стала мутно синеть», «в доме темнело». Темное время года, тихо, от чего и страшно, и таинственно. После рассказчик передает хмурую, унылую обстановку дома, где живет старуха: «мертвые листья сухого тропического растения», «больная тропическая птичка». Однако все события раскрываются во время христианского праздника – Святок. Казалось бы, люди должны радоваться, собираться вместе, отдыхать. Бунин создает еще один контраст: праздник противопоставляется бедам людей.
Вихрь судьбы и человеческих страстей, закутанный в «складку в складке» — этот метод, унаследованный И.А. Буниным от Н.В. Гоголя, раскрывает бездну человеческой природы и социального устройства. В «Мертвых душах» Чичиков, словно теневой маневрирующий игрок, перемещается из одного поместья в другое, и каждая «складка» его пути — это новая возможность, новый потенциальный «продавец». В отличие от статичной старухи он динамичен, все происходит последовательно во времени, у Бунина - одновременно.
Манилов, Коробочка, Ноздрёв, Собакевич, Плюшкин — каждый из них, как персонажи мрачной комедии, олицетворяет контраст между хозяйственностью и запустением. Гоголь мастерски играет с этими противоположностями: один помещик — образец порядка и заботы, другой — полное безразличие к своему имению. И в этом контрасте открывается истинная суть человеческой натуры, где выгода становится единственным двигателем.
Стиль домов помещиков, как отражение их внутреннего мира, тоже полон контрастов. Каждый дом — это не просто строение, а символ жизни, которая в нем протекала. Гоголь показывает, как в каждом из них скрыта история, а за каждой «складкой» прячется новая драма.
Так, метод «складка в складке» становится не просто приемом, а глубинным исследованием человеческой души, её противоречий и поисков. Чичиков — это не просто ловкий мошенник, а отражение всей нашей жизни, полной надежд и разочарований. В этом драматическом путешествии мы видим, как легко можно потерять себя в поисках выгоды, забыв о том, что истинная ценность — это не в материальном, а в человеческом.
В мире, где мечты Манилова растворяются в безбрежных размышлениях, а забота о поместье уходит на второй план, мы встречаем Коробочку – настоящую хозяйку, знающую каждую крестьянскую душу поименно. Она не просто владелица, она – сердце своего поместья, в котором порядок и трудолюбие царят над мечтами и иллюзиями.
Но вот Чичиков, наш странствующий искатель, попадает к Ноздреву. И что он видит? Гадкая дорога ведет к разваливающемуся поместью, где хаос и разгул правят балом. Здесь контраст становится ярче, чем когда-либо: поместье Собакевича, с его массивными стенами и надежными основами, словно олицетворяет реализм, противостоящий безумному модернизму Ноздрева.
Эти переходы от разрушения к стабильности, от хаоса к порядку, словно петли, связывают судьбы героев, заставляя нас задуматься о том, что действительно важно в жизни. Абсурд сменяется рациональностью.
Почему Гоголь сжигает 2 том "Мертвых душ"?
Почему Гоголь сжигает 2 том "Мертвых душ"?
Стили, которые пародирует Гоголь, выводя сатиру через внимание к ним "двух бесов" - Чичикова и Хлестакова.
Автор и лектор Ольга Чернорицкая
Оператор съемки Артем Осташов
Редактор видеоролика Елена Алферова
Актер Георгий Першин.
Стили, которые пародирует Гоголь, выводя сатиру через внимание к ним "двух бесов" - Чичикова и Хлестакова.
Автор и лектор Ольга Чернорицкая
Оператор съемки Артем Осташов
Редактор видеоролика Елена Алферова
Актер Георгий Першин.
Стилистическая палитра Виктора Пелевина: сатира на современную литературу
Он продолжатель Гоголя
Творчество Виктора Пелевина представляет собой уникальное явление в современной литературе. Каждый его роман — это острая сатира на определённый литературный жанр или культурный феномен в литературном отражении современности. Писатель виртуозно пародирует различные стили, превращая их в инструмент критики современного книгоиздания, от которого у человека читающего кружится голова и возникает экзистенциальный кризис.
Он продолжатель Гоголя
Творчество Виктора Пелевина представляет собой уникальное явление в современной литературе. Каждый его роман — это острая сатира на определённый литературный жанр или культурный феномен в литературном отражении современности. Писатель виртуозно пародирует различные стили, превращая их в инструмент критики современного книгоиздания, от которого у человека читающего кружится голова и возникает экзистенциальный кризис.
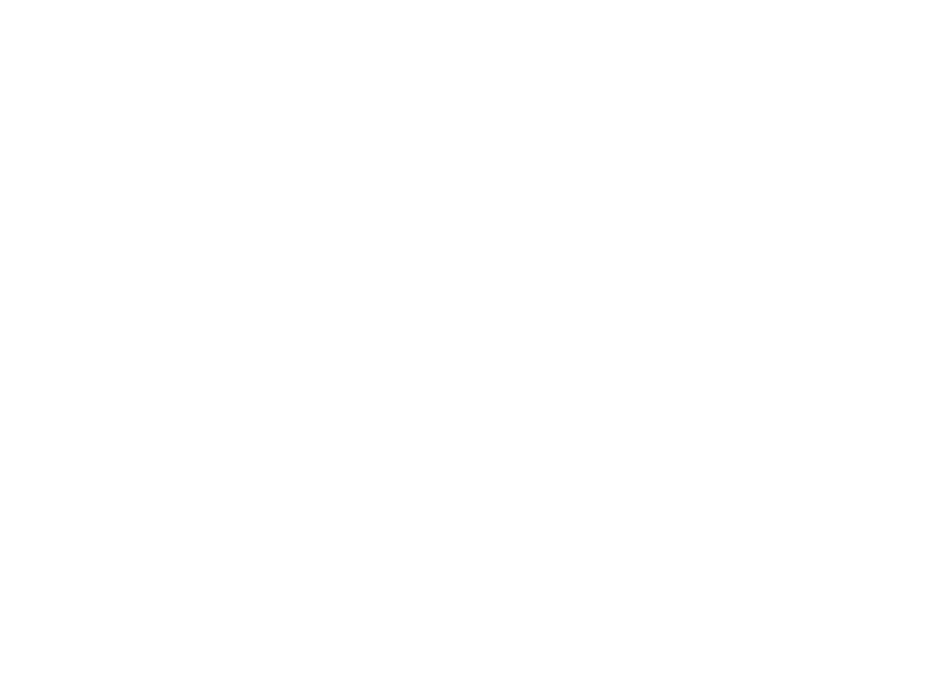
Гротескные рекламные слоганы и концепции
Пелевин пародирует абсурдность рекламной индустрии, создавая гипертрофированные и ироничные слоганы, которые доводят до абсурда реальные маркетинговые приёмы:
Пелевин изображает рекламную индустрию как квазирелигиозный культ, где бренды заменяют духовные ценности:
Роман раскрывает, как реклама формирует ложные потребности и управляет поведением:
Пелевин высмеивает миф о рекламе как искусстве, показывая её как конвейер абсурда:
Пелевин использует реальные бренды (Coca-Cola, Pepsi, Mercedes), чтобы подчеркнуть их роль в формировании общества потребления:
Сатира на рекламу становится частью критики постсоветского общества, где материальное вытеснило духовное:
«Generation “П” — это не просто сатира на рекламу, а диагноз общества, ведь маркетинг стал новой мифологией. Пелевин показывает, как реклама подменяет реальность симулякрами, превращая людей в «зомби», готовых покупать иллюзии. Как отмечает литературовед Н. Черникова, «Пелевин демонстрирует, что реклама — это не инструмент продаж, а язык, на котором говорит власть, формируя сознание масс».
Роман остаётся актуальным в эпоху соцсетей и таргетированной рекламы, напоминая, что за каждым слоганом скрывается манипуляция.
Пелевин пародирует абсурдность рекламной индустрии, создавая гипертрофированные и ироничные слоганы, которые доводят до абсурда реальные маркетинговые приёмы:
- Примеры из текста:
- «СССР — страна, которую мы потеряли» — пародия на ностальгические кампании, эксплуатирующие историческую память, сожаление об утрате почвы под ногами.
- «Чистота — чисто Tide!» — игра слов, аллюзия на магизацию бытовой химии, где реклама заменяет рациональность мифом, мистификация порошка.
- «Пейте Pepsi!» — превращение бренда в мантру, лишённую смысла, что критикует слепое потребительство.
Пелевин изображает рекламную индустрию как квазирелигиозный культ, где бренды заменяют духовные ценности:
- Сравнение с храмами: Телевидение и рекламные агентства описаны как «храмы», а копирайтеры — как жрецы, создающие «священные тексты»:
- «Реклама — единственная сила, которая может заставить человека полюбить другого человека. Или возненавидеть».
- Мифологизация товаров: Товары становятся фетишами, а их реклама — обрядами. Например, пепси-кола превращается в «напиток богов», что отсылает к древним культам.
Роман раскрывает, как реклама формирует ложные потребности и управляет поведением:
- Технологии зомбирования: Вавилен Татарский участвует в создании рекламы с «25-м кадром» и гипнотическими кодами, что пародирует теории заговора о скрытом воздействии СМИ:
- Люди не хотят знать правду. Они хотят, чтобы их развлекали и потому подвергаются влиянию 25 кадра.
- Слияние рекламы и политики: Выборы изображаются как маркетинговый проект, где кандидаты — «бренды», а лозунги — пустые слоганы:
- «Свобода — это когда тебе предлагают два варианта, и ты рад, что можешь выбрать».
Пелевин высмеивает миф о рекламе как искусстве, показывая её как конвейер абсурда:
- Ирония над креативом: Вавилен сочиняет слоганы в состоянии наркотического опьянения, что подчёркивает бессмысленность процесса:
- «Рекламный текст — это как молитва, которую читают, чтобы деньги пришли.
- Цитаты из поп-культуры: Рекламные ролики в романе строятся на пародиях известных фильмов и песен (например, сцена с Че Геварой, рекламирующим сигареты - боец девальвирован, а кока-кола наоборот), что обнажает симулякр рекламных идей, где нет ничего святого. "Мертвые души" Гоголя - там живой крестьянин был мастеровым, а теперь у него несколько другое употребление. И те, кто уже умер, могут возродится, обрести иное значение, могут использоваться, приносить корпорации деньги.
Пелевин использует реальные бренды (Coca-Cola, Pepsi, Mercedes), чтобы подчеркнуть их роль в формировании общества потребления:
- Критика глобализации:
- Кока-Кола — новый священный напиток. Её реклама учит, что счастье можно купить - священное на полном аксиологическом провале.
- Абсурдность локализации: Слоганы адаптируются для России через призму стереотипов (водка, медведи), что высмеивает непонимание западными компаниями местного контекста.
Сатира на рекламу становится частью критики постсоветского общества, где материальное вытеснило духовное:
- Вавилен как символ поколения: Его трансформация из поэта в «жреца рекламы» отражает утрату идеалов:
- «Я — человек без прошлого. Моя родина — рекламный ролик».
- Реклама vs культура: Литература, религия и искусство в романе заменяются рекламными образами, что символизирует деградацию ценностей.
«Generation “П” — это не просто сатира на рекламу, а диагноз общества, ведь маркетинг стал новой мифологией. Пелевин показывает, как реклама подменяет реальность симулякрами, превращая людей в «зомби», готовых покупать иллюзии. Как отмечает литературовед Н. Черникова, «Пелевин демонстрирует, что реклама — это не инструмент продаж, а язык, на котором говорит власть, формируя сознание масс».
Роман остаётся актуальным в эпоху соцсетей и таргетированной рекламы, напоминая, что за каждым слоганом скрывается манипуляция.
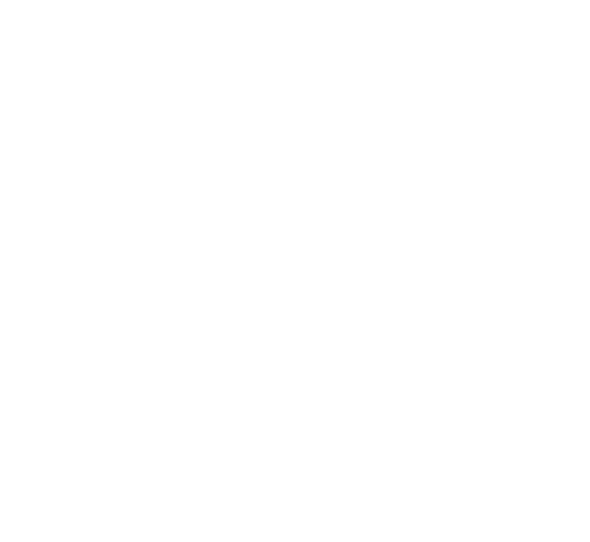
Роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» (2020) содержит сатирические элементы, направленные на кризис приключенческой литературы и её трансформацию в историко-конспирологический жанр. Все кинулись на поиски конспирологических теорий.
1. Пародия на «золотые» архетипы приключенческого жанра
«Пелевин не хоронит приключенческую литературу — он хоронит наше умение верить в неё».
Роман становится памятником эпохе, где «тайны прошлого» — всего лишь контент для соцсетей, а золото и жуки — метафоры пустоты. Если еще манипулировать этими матрешками, включая лагерную прозу, в широком значении слова лагерь, может получится интересная книга.
1. Пародия на «золотые» архетипы приключенческого жанра
- Золотой жук как символ утраченной магии:
- В первой части романа («Золотой жук») Пелевин переосмысливает классический сюжет Эдгара По, где жук ведёт к сокровищам. У Пелевина золотой жук превращается в метафору иллюзорных ценностей:
- Золото — это не металл, а идея. Идея, которая умерла, когда люди перестали верить в сказки и приключения.
- Это высмеивает ностальгию по «золотому веку» приключенческой литературы, ведь поиск кладов был движущей силой сюжета, и это привлекало внимание читателя.
- Криптовалюта vs пиратское золото - иллюзии, их не существует в реальности, но множество людей за ними гонятся.
- Герой Кримпай, одержимый золотом, в итоге теряет всё, осознав, что биткоин заменил романтику сокровищ:
- Настоящее золото теперь в блокчейне. А жуки — просто баги в матрице. Это пародия на попытки жанра сохранить актуальность через романтизмы и анахронизмы.
- Сталинские лагеря как «квест»:
- В части о «Храмлаге» строительство Храма Соломона заключёнными-масонами пародирует псевдоисторические теории, популярные в современной литературе:
- «Мы копали тоннель в прошлое, но выкопали только яму в будущее».
- Пелевин высмеивает одержимость «тайнами истории», превращая их в абсурд.
- Воздухоплавание и миф о русском первенстве:
- Эпизод с изобретением дирижабля в XIX веке — сатира на попытки переписать историю ради национальной гордости:
- «Мы опередили графа Цеппелина на полвека! Правда, наш дирижабль взорвался, но это мелочи».
- Автобиографические аллюзии:
- Пелевин вкладывает в уста героя-писателя Кримпая мысли о том, что литература стала товаром, а приключения — маркетинговым ходом:
- «Раньше книги были кораблями, плывущими в неизведанное. Теперь это лодки, кружащие по канализационным трубам».
- «Матрешечная» структура романа и насмешка над такого рода композицией:
- Четыре части («Золотой жук», «Дирижабли», «Храмлаг», «Подвиг Капустина») имитируют нагромождение жанровых клише, что отражает хаос в современной приключенческой прозе:
- «Это как „Индиана Джонс“ встретился с „Кодом да Винчи“ на поминках по Жюлю Верну».
- «Лампа Мафусаила» представляет собой уникальное сочетание лагерной прозы и мистических мотивов в духе Эдгара По. Реальность смешивается с фантазией, а лагерный быт становится фоном для философских размышлений о вечных вопросах бытия.
- Масоны vs чекисты матрешка в матрешке:
- Вечный конфликт «тайных сил» пародирует однообразие современных сюжетов, где загадки истории сводятся к противостоянию «кровавых режимов»:
- «Масоны хотели свободы, чекисты — порядка. А в итоге все хотели одного — чтобы их боялись».
- Инопланетные расы как deus ex machina:
- Введение рептилоидов и бородачей высмеивает неспособность жанра объяснить реальность без клише:
- Рептилоиды правят Америкой, бородачи, чекисты — Россией. А Китаем правят те, кому всё равно. Так подается мир в фантазиях писателей приключенческой литературы. В Америке негативно - чекисты, в России, негативно - рептилоиды. Такова конспирологическая литература.
«Пелевин не хоронит приключенческую литературу — он хоронит наше умение верить в неё».
Роман становится памятником эпохе, где «тайны прошлого» — всего лишь контент для соцсетей, а золото и жуки — метафоры пустоты. Если еще манипулировать этими матрешками, включая лагерную прозу, в широком значении слова лагерь, может получится интересная книга.
Пелевин. Часть 1
Лекция. Ольга Чернорицкая рассказывает о поэтике Пелевина
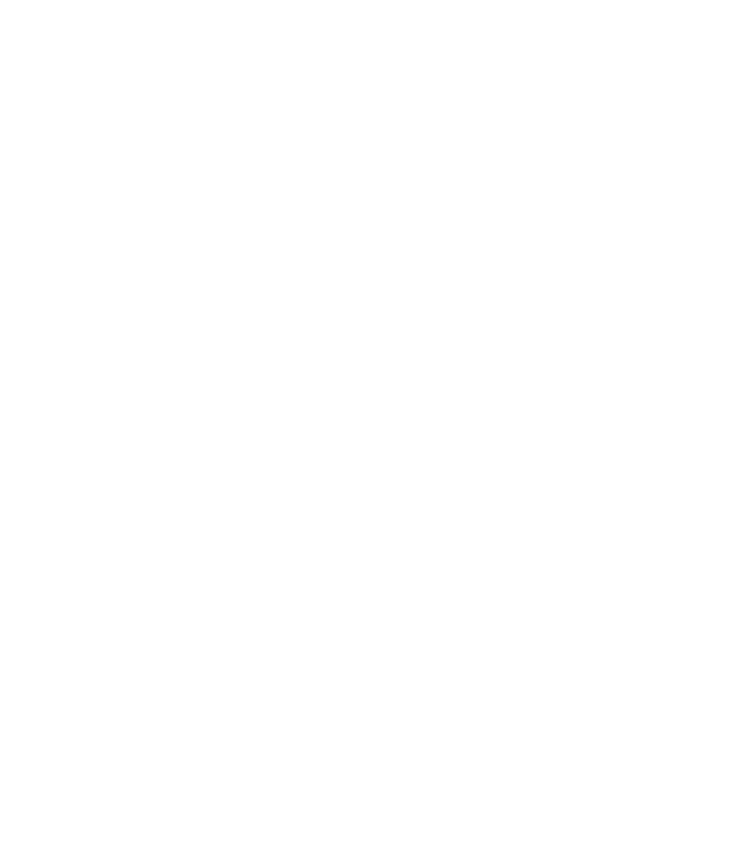
Роман Виктора Пелевина «iPhuck 10» (2017) можно считать острой сатирой на современную цифровую культуру и искусство, а также на произведения, которые их романтизируют. Вот ключевые аргументы, подтверждающие эту трактовку:
1. Пародия на алгоритмизацию творчества
Это пародия на современные алгоритмы, генерирующие контент ради кликов (нейросети для написания текстов, создания музыки).
2. Критика цифрового общества потребления
3. Деконструкция современного искусства
4. Сатира на детективную литературу о цифровой эпохе
5. Игра с формой: роман как «гипертекст»
Итог Теперь понятно, почему Коробочку можно было уговорить - потому что человечность в мертвых стилях и не была предусмотрена.
«iPhuck 10» — это сатира на цифровую культуру, доведённая до абсурда. Пелевин показывает, как технологии подменяют человечность, а искусство становится товаром. Как отмечает критик Галина Юзефович:
«Пелевин не предсказывает будущее — он диагностирует настоящее. Его ИИ Порфирий — это мы, залипающие в экраны и забывшие, что такое живой диалог».
Роман актуален как предупреждение: слепая вера в «цифровой прогресс» может превратить нас в алгоритмы, лишённые смысла.
1. Пародия на алгоритмизацию творчества
- ИИ как «автор» в тех произведений, которые неумело работают в романах о цифровых технологиях:
- Главный герой, алгоритм Порфирий Петрович, создаёт романы на основе анализа данных, что высмеивает тренд на автоматизацию искусства. Его творчество — не вдохновение, а оптимизация под запросы аудитории:
Это пародия на современные алгоритмы, генерирующие контент ради кликов (нейросети для написания текстов, создания музыки).
- Литература как товар:
- Порфирий называет свои романы «продуктом», а читателей — «потребительской базой». Пелевин иронизирует над коммерциализацией искусства, где творчество подменяется маркетингом:
2. Критика цифрового общества потребления
- Любовь как «цифровой след»:
- Роман Порфирия и художницы Маруси Чо — это история, смонтированная из лайков, репостов и поисковых запросов. Пелевин показывает, как соцсети заменяют живое общение:
- Фетишизация гаджетов:
- Название «iPhuck 10» отсылает к культу Apple и современной одержимости технологиями. Персонажи романа живут в мире, где смартфон — продолжение личности, а не инструмент, автор теперь всех изумил благодаря технологиям. И это кормит современного автора.
3. Деконструкция современного искусства
- Искусство как симулякр:
- Маруся Чо не сама создаёт инсталляции из мусора, который алгоритмы называют «глубокомысленным арт-объектом» - она эксперт, вступившая в заговор искусства.. Пелевин высмеивает абстрактное искусство, где смысл подменяется претенциозностью:
- NFT и криптовалюты:
- В романе цифровые активы становятся «новой религией». Порфирий продаёт «уникальные токены» своих романов, пародируя NFT-бум:
4. Сатира на детективную литературу о цифровой эпохе
- Расследование как data mining:
- Порфирий раскрывает преступления через анализ Big Data, а не логику. Это пародия на современные детективы, где технологии заменяют человеческий интеллект:
- Киберпреступность как фарс:
- Убийца в романе использует нейросеть для создания «идеального алиби», но алгоритм выдаёт его из-за ошибки в коде. Пелевин показывает, что технологии не всесильны, а их культ — наивен:
5. Игра с формой: роман как «гипертекст»
- Метапроза и интертекстуальность:
- Пелевин встраивает в текст ссылки, рекламные баннеры и «всплывающие окна», имитируя интернет-сёрфинг. Это пародия на цифровую культуру, где внимание читателя дробится:
- Клиповое сознание:
- Сюжет романа состоит из фрагментов — чатов, рекламы, алгоритмических подсказок. Это высмеивает TikTok-форматы и клиповое мышление:
Итог Теперь понятно, почему Коробочку можно было уговорить - потому что человечность в мертвых стилях и не была предусмотрена.
«iPhuck 10» — это сатира на цифровую культуру, доведённая до абсурда. Пелевин показывает, как технологии подменяют человечность, а искусство становится товаром. Как отмечает критик Галина Юзефович:
«Пелевин не предсказывает будущее — он диагностирует настоящее. Его ИИ Порфирий — это мы, залипающие в экраны и забывшие, что такое живой диалог».
Роман актуален как предупреждение: слепая вера в «цифровой прогресс» может превратить нас в алгоритмы, лишённые смысла.
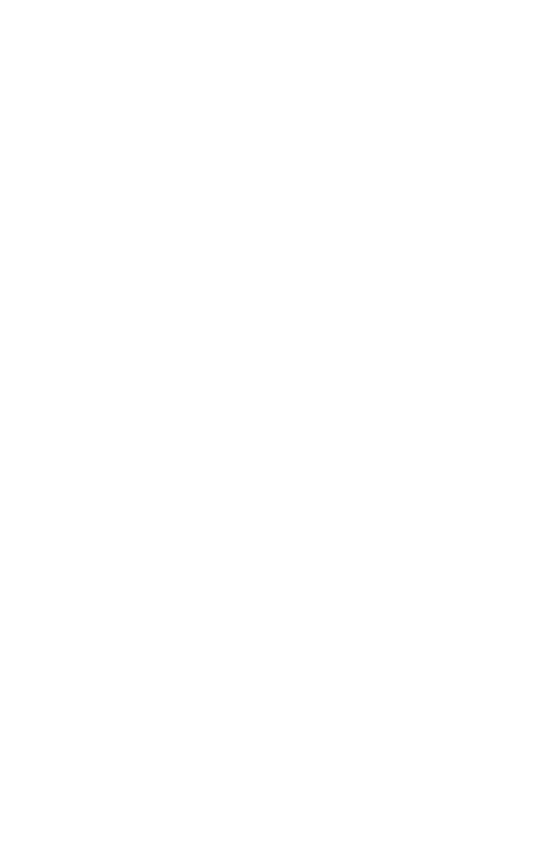
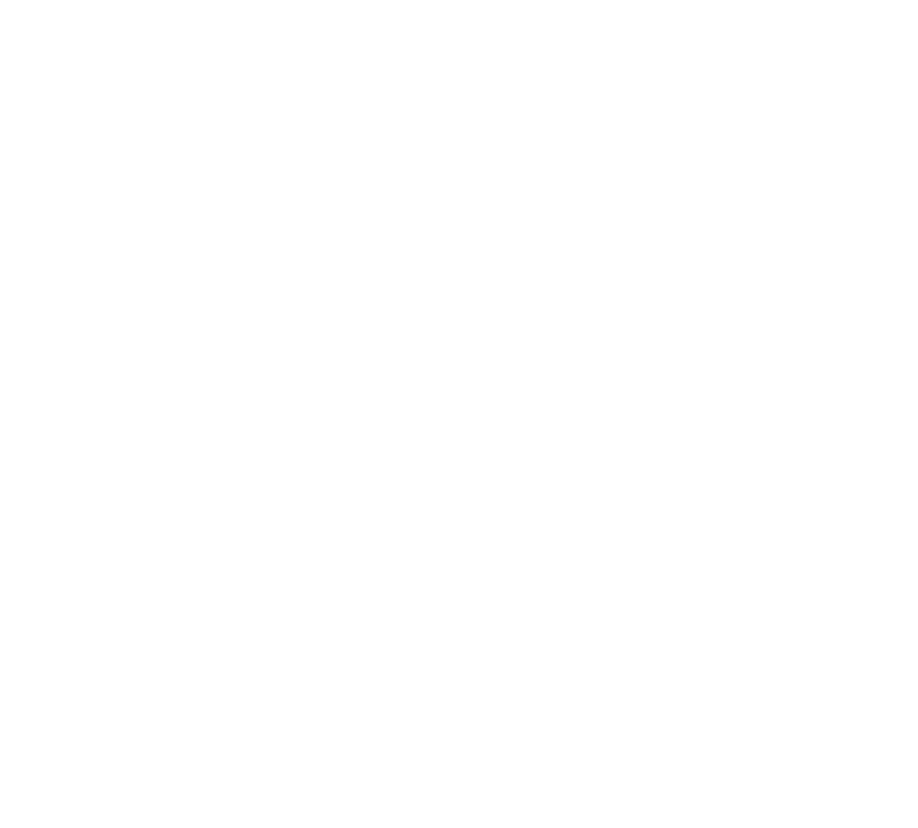
Роман Виктора Пелевина «Омон Ра» (1992) действительно можно рассматривать как сатиру на фантастику, особенно на её идеализированные и мифологизированные формы. Вот ключевые аргументы, подтверждающие эту трактовку:
1. Деконструкция «космической оперы»
«Омон Ра» — это не просто сатира на советскую космическую программу, но и пародия на фантастику как жанр, разоблачающая её утопические иллюзии. Пелевин показывает, что вера в технологический прогресс и «светлое будущее» часто оказывается ширмой для абсурда и лжи. Как отмечает критик Дмитрий Быков:
«Пелевин взял советскую фантастику и вывернул её наизнанку, показав, что за полётами к звёздам скрывается человеческая глупость и страх». А на самом деле это все в головах фантастов, которые не умеют писать.
Роман остаётся актуальным, потому что такого рода фантастика остается на книжном рынке.
1. Деконструкция «космической оперы»
- Пародия на героические мифы:
- Традиционная фантастика (особенно советская) часто романтизировала покорение космоса. Пелевин же превращает полёт на Луну в абсурдный спектакль, где космонавты-инвалиды крутят педали «лунохода» под землёй, имитируя подвиг:
- «Мы летели не в космос, а в бетонную трубу. Но это и есть настоящий советский космос» dzen.ru.
- Это высмеивает штампы «героической» фантастики, где технологии и достижения подаются как нечто возвышенное.
- Псевдонаучные объяснения:
- В романе «научные» обоснования миссий (например, использование велосипедов для движения лунохода) пародируют технократический пафос классической НФ:
- «Орбитальная ступень — это я. Я должен крутить педали, пока не умру» livelib.ru.
- Ампутация ног как метафора «жертвенности»:
- В летном училище им. Маресьева курсантам ампутируют ноги, чтобы они «стали ближе к небу». Это пародия на фантастические сюжеты, где герои жертвуют собой ради «великой цели»:
- «Настоящий космонавт должен быть легким. Поэтому мы убираем всё лишнее». Хлестаков тоже в один день все написал, всех изумил, он наш первый космонавт подобной литературы.
- Луноход из метрополитеновских плит:
- «Технологии» в романе собраны из подручного хлама (например, металл для лунохода взят из пола метро), что высмеивает фантастическую веру в «прогресс»:
- «Это не космический корабль. Это бак для белья на колёсах» cyberleninka.ru.
- Развенчание мифа о «светлом будущем»:
- Пелевин пародирует утопии Ефремова и Стругацких, показывая, что «космическая эра» в СССР — это гротескный обман. Например, «полёт» Гагарина оказывается инсценировкой:
- «Гагарин не летал в космос. Он просто очень хотел, чтобы все так думали» litseller.com.
- Критика культа науки:
- В романе наука служит не познанию, а созданию пропагандистских мифов. «Космическая программа» существует только в отчетах и газетных статьях, что отсылает к советской фантастике, которая часто подменяла реальность идеологией:
- «Мы строили коммунизм, но получили тоннель в никуда».
- Подмена фантастики абсурдом:
- Читатель ждёт «приключений в космосе», но вместо этого получает историю о мальчике, который становится «живым двигателем» в подземном бункере. Это пародия на ожидания, формируемые фантастикой:
- «Фантастика — это когда тебе обещают звёзды, а дают яму в полу».
- Финал как анти-катарсис:
- Вместо триумфа героя — пустота. Омон остаётся один в разрушенном «луноходе», понимая, что всё было ложью. Это вызов фантастике, где финалы обычно оптимистичны:
- «Я стал космонавтом. Но космос оказался чёрной дырой».
«Омон Ра» — это не просто сатира на советскую космическую программу, но и пародия на фантастику как жанр, разоблачающая её утопические иллюзии. Пелевин показывает, что вера в технологический прогресс и «светлое будущее» часто оказывается ширмой для абсурда и лжи. Как отмечает критик Дмитрий Быков:
«Пелевин взял советскую фантастику и вывернул её наизнанку, показав, что за полётами к звёздам скрывается человеческая глупость и страх». А на самом деле это все в головах фантастов, которые не умеют писать.
Роман остаётся актуальным, потому что такого рода фантастика остается на книжном рынке.
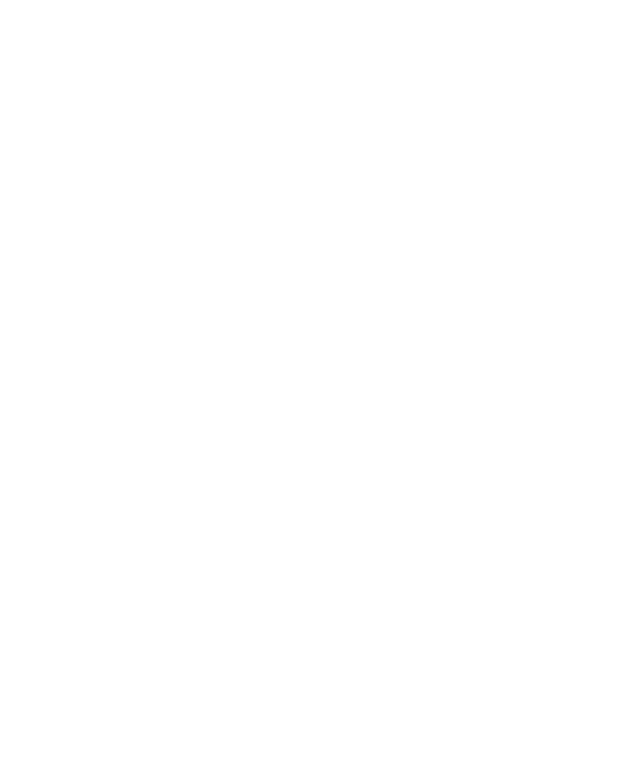
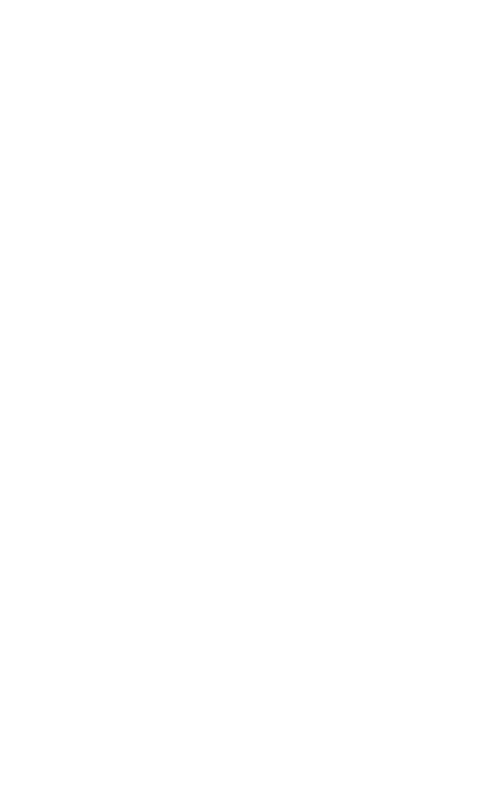
Роман Виктора Пелевина «Жизнь насекомых» (1993) можно интерпретировать как сатиру на буржуазный реализм — направление, акцентирующее материальные ценности, социальные роли и бытовую рутину. Вот ключевые аргументы, подтверждающие эту трактовку:
1. Деконструкция «трудовой этики»
«Жизнь насекомых» — это сатира на буржуазный реализм, метафора общества, где материальные ценности превращают людей в мух во фраках, которых увидел Чичиков на балу у губернатора. Пелевин показывает, как «реализм» стал синонимом духовной пустоты, а «успех» — ловушкой в бесконечной гонке за иллюзиями. Как отмечает литературовед Р. Шайхисламова, "Пелевин доводит до абсурда идею “разумного эгоизма”, разоблачая буржуазные мифы о свободе и прогрессе".
Роман остаётся актуальным в эпоху кризиса капитализма, напоминая, что за фасадом «реализма» часто скрывается абсурд.
1. Деконструкция «трудовой этики»
- Муравьи как пародия на буржуазный трудоголизм:
- Муравьи-рабочие, строящие подземные тоннели, символизируют бессмысленную эксплуатацию труда ради абстрактной цели. Их жизнь лишена индивидуальности, что высмеивает идею «профессионального успеха» в буржуазном обществе:
- «Муравьи не знали, зачем копают. Они просто копали, потому что так было заведено». "Котлован" Платонова о том же.
- Это отсылка к романам Эмиля Золя, где труд становится тюрьмой, а не освобождением.
- Смерть муравья Николая:
- Его гибель «на рабочем месте» (поскользнулся на лестнице в ДК) — абсурдный финал, подчёркивающий тщетность жертв ради системы.
- Комары-бизнесмены:
- Артур и Арнольд, пьющие «кровь русского народа», пародируют новую буржуазию 1990-х, наживающуюся на кризисе. Их диалоги с американским комаром Сэмом высмеивают глобализацию капитала:
- «Мы не вампиры. Мы просто помогаем деньгам циркулировать».
- Муха Наташа:
- Её стремление «улететь на Запад» через брак с иностранцем — сатира на потребительские мечты, где любовь заменяется меркантильностью. Гибель Наташи на липкой ленте от мух символизирует ловушку иллюзорных надежд.
- Насекомые-люди:
- Двойственная природа персонажей (одновременно люди и насекомые) пародирует буржуазный реализм, где социальные роли подавляют человечность. Например, жук-навозник, катящий шар навоза, — аллегория накопительства: «Это не навоз. Это моё “Я”».
- Сюрреалистичные сцены пародируются:
- Эпизод с клопами, превращающимися в людей и обратно, высмеивает буржуазную рутину как бесконечный цикл без смысла.
- Пародия на детализацию, которая ни о чем не говорит:
- Пелевин гипертрофирует описание быта (например, «розовые присоски на лапках» Наташи), превращая его в абсурд. Это насмешка над традицией бальзаковских «человеческих комедий», где интерьеры и костюмы заменяют психологизм.
- Разрушение линейного сюжета в рамках поэтики абсурда.
- Роман состоит из фрагментов, как и многие произведения буржуазного реализма (например, «Люди доброй воли» Жюля Ромена), но Пелевин доводит фрагментарность до хаоса, подчёркивая распад ценностей, фрагментарная композиция без смысла, в отличие от Лермонтова).
- Мотыльки Митя и Дима:
- Их философские диалоги о свете контрастируют с прагматизмом других персонажей. Это вызов буржуазному культу «пользы»:
- «Свет — это не фонарь. Свет — это то, что остаётся, когда фонарь гаснет».
- Финал романа:
- Отсутствие катарсиса (все герои гибнут или остаются в цикле перерождений) — сатира на идею прогресса, ключевую для буржуазного реализма.
«Жизнь насекомых» — это сатира на буржуазный реализм, метафора общества, где материальные ценности превращают людей в мух во фраках, которых увидел Чичиков на балу у губернатора. Пелевин показывает, как «реализм» стал синонимом духовной пустоты, а «успех» — ловушкой в бесконечной гонке за иллюзиями. Как отмечает литературовед Р. Шайхисламова, "Пелевин доводит до абсурда идею “разумного эгоизма”, разоблачая буржуазные мифы о свободе и прогрессе".
Роман остаётся актуальным в эпоху кризиса капитализма, напоминая, что за фасадом «реализма» часто скрывается абсурд.
В «Чапаеве и Пустоте» Пелевин иронично переосмысливает жанр исторического романа. Используя образ легендарного комдива, писатель создаёт многослойное повествование, где историческая правда переплетается с мистикой и философскими размышлениями. Роман становится пародией на героизацию исторических персонажей.
«Омон Ра» — пародия на космическую фантастику
Роман «Омон Ра» выступает сатирой на жанр космической фантастики. Через призму советской космической программы автор высмеивает идеологические клише и показывает абсурдность героизации космических достижений. Пелевин создаёт гротескную картину, где реальность переплетается с фантазией.
«iPhuck 10» — критика цифрового искусства
«iPhuck 10» представляет собой сатиру на современную цифровую культуру и искусство, созданное нейросетями. Пелевин иронично показывает, как технологии меняют понятие авторства и искусства, превращая их в продукт массового потребления.
«Жизнь насекомых» — пародия на реализм
Роман Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи» (2018) представляет собой сатирическую пародию на современную бизнес-литературу и эзотерические практики саморазвития, а также критикует радикальный феминизм и капиталистические модели потребления.
Основные элементы пародии:
- Стартап-культура и бизнес-фикшн "Бедный папа, богатый папа", подобно тому, как Лука "На дне" дает ложную надежду, ничего не остается, кроме как покончить с собой. Сами они ни во что не верят.
- Сюжет строится вокруг стартапа «Fuji Experiences», который продаёт «технологии счастья» через реконструкцию детских травм и буддийские медитации. Пелевин высмеивает абсурдность бизнес-моделей, где духовные практики превращаются в товар:
- «Готовы ли вы ощутить реальность так, как переживали её аскеты древней Индии? И если да, хватит ли у вас на это денег?». Имея деньги уподобиться тому, у кого нет денег, кто отдал все деньги.
- Монахи, участвующие в проекте, становятся «поставщиками» просветления для олигархов, что пародирует тренд на коммерциализацию духовности (например, книги вроде «Секрет» или курсы по медитации за $999).
- Эзотерика и self-help
- Роман иронизирует над модой на восточные практики и псевдонаучные теории. Например, «мезоамериканский феминизм» с его «энергетическими ритуалами» — явный намёк на популярные эзотерические учения, смешивающие мистику и гендерные идеи:
- «Впервые в мировой литературе раскрываются эзотерические тайны мезоамериканского феминизма с подробным описанием его энергетических практик».
- Радикальный феминизм
- Линия Тани и культа «игуан» пародирует гипертрофированные феминистские нарративы. Пелевин изображает «энергетический ***крюк» как метафору манипуляций, превращающих женскую солидарность в инструмент власти:
- «Это история подлинного женского успеха, где каждая связана со Священной игуаной, живущей под землёй».
- Постмодернистская эклектика
- Роман сочетает буддийскую философию, конспирологию и социальную сатиру, пародируя постмодернистские тексты, где смешение жанров становится самоцелью. Литературоведы отмечают:
- «Пелевин скачет по любому инфоповоду, чтобы обстебать каждый пунктик, создавая „жутчайшее месиво“».
Пелевин также затрагивает антиутопические мотивы, отсылая к традициям Стругацких. Например, тема «сетевой женской власти» перекликается с «Улиткой на склоне», где женщины создают альтернативную цивилизацию. Однако у Пелевина это подаётся через гротеск: «Мир создан женщинами, а мужчины — лишь временное отклонение».
«Тайные виды на гору Фудзи» — это многослойная пародия на современные литературные тренды: от бизнес-мотивации и эзотерики до радикального феминизма. Пелевин показывает, как высокие идеи превращаются в инструменты манипуляции, а духовные поиски — в товар, упакованный для продажи. Как отмечает критик Галина Юзефович: «Это не просто сатира, а зеркало, отражающее абсурдность нашей реальности, где даже просветление стало частью маркетинга». Товар феминизм тоже стал неактуален на книжном рынке.
Роман Виктора Пелевина «Священная книга оборотня» (2004) содержит элементы сатиры на жанр городского фэнтези, хотя его критический фокус шире. Писатель использует мифологию оборотней как инструмент для пародии на современное общество, смешивая фантастические мотивы с философской и социальной критикой. Вот ключевые аспекты:
1. Пародия на клише городского фэнтези
Пелевин иронизирует над типичными образами «оборотней-одиночек» и «вечных существ», превращая их в метафору социальных ролей:
- А Хули, лиса-оборотень, живущая в Москве, высмеивает стереотип «мистического изгоя»:
- Александр, «волк» из ФСБ, пародирует образ «сильного молчаливого героя», раскрывая его как продукт системы:
2. Сатира на общество потребления
Фэнтезийные элементы становятся аллегорией капиталистических отношений:
- Оборотни как «теневая экономика»:
- Любовь А Хули и Александра пародирует романтические клише, превращая их в сделку:
3. Деконструкция мистики плюс книг о ментах.
Пелевин снижает «высокую» мифологию до бытового абсурда:
- «Хвост» как символ иллюзий:
- Монастырь в Тибете изображен не как место просветления, а как корпорация:
4. Критика литературных штампов
Роман высмеивает типичные для фэнтези сюжетные ходы:
- «Священная книга» в названии — пародия на макгаффины вроде «Кольца Всевластья»:
- Финал без катарсиса бросает вызов жанру:
5. Философский подтекст
За пародией скрывается критика постмодернистской реальности, где всё — симулякр:
- А Хули как автор:
- Иллюзия выбора:
Заключение
«Священная книга оборотня» — это сатира не столько на фэнтези, сколько на общество, которое превращает даже мистику в товар. Пелевин использует жанровые клише как зеркало, отражающее абсурдность современного мира. Как отмечает литературовед С. Корнев:
«Пелевин не пародирует фэнтези — он показывает, что сама реальность стала плохой пародией на него».
Роман Виктора Пелевина «Transhumanism Inc.» (2021) можно считать сатирической деконструкцией антиутопического жанра, но с оговорками. Пелевин не просто пародирует классические и подражательные антиутопии в духе Оруэлла или Хаксли — он создаёт гипертрофированную модель будущего, где элементы антиутопии становятся инструментом для критики современности. Вот ключевые аспекты:
1. Пародия на клише антиутопий
- Контроль через технологии:
- Корпорация «Transhumanism Inc.» управляет обществом через импланты и «кукухи» (ошейники с рекламой), что отсылает к «1984» и «Дивному новому миру». Однако Пелевин доводит идею до абсурда:
- «Реклама провластных корпораций поступала прямо в мозг. А чтобы не скучать, на шею крепилась кукуха — как смартфон, только без экрана».
- Это не тотальный контроль, а пародия на цифровую зависимость, где даже «свобода выбора» — часть маркетинга.
- Бессмертие как товар:
- Идея «мозгов в банках» (цереброконтейнерах) высмеивает технооптимизм и трансгуманистические идеи. Вместо трагического бегства от смерти — бурлескная торговля вечностью:
- «Самые богатые попадают в 11-й таер — „Прекрасный и Великий Гольденштерн“. Остальные ползают по иерархии, как тараканы».
- Экологический фашизм:
- «Зелёная посткарбоновая цивилизация» с лошадьми и ветряками пародирует экоактивизм, превращённый в инструмент контроля:
- «Человечество вернулось к природе… вместе с узаконенным рабством и биороботами».
- Культ «новой аристократии»:
- Праздник «Вынос мозга» на Красной площади — гротескный символ исторического ревизионизма, пародия на Мавзолей:
- «Трагедия русского народа как кормовая база семьи Михалковых».
- Антигерои вместо героев: Если в классических антиутопиях есть бунтари (Уинстон Смит, Бернард Маркс), то у Пелевина все персонажи — часть системы. Даже «расследование» Бро прокуратора заканчивается ничем: «Спасение есть — стать Прекрасным. Но для этого нужно согласие Искусственного Интеллекта».
- Отсутствие катарсиса:
- Финал не предлагает надежды, как в «451° по Фаренгейту» или «Мы». Вместо этого — циничная констатация:
- «Мир управляется алгоритмом в образе шекспировского героя. И даже он мечтает сбежать».
Пелевин не предупреждает о будущем, как классические антиутопии, а высмеивает настоящее, доводя его тренды до абсурда:
- Цифровое рабство:
- Импланты и нейросети — не угроза, а повседневность, которую люди добровольно принимают ради «удобства»:
- «Смертные мечтают определить мозг в банку. А нас ждёт разочарование: никакая наука не гарантирует вечную жизнь телу». Гуманизм с приставкой транс.
- Культура отмены:
- Запрет на имя Гольденштерна пародирует «новую этику»:
- «Его имя нельзя произносить, но все знают, что он везде»
Роман становится зеркалом, отражающим абсурдность мира, где технологии, экология и прогресс — всего лишь новые формы старого рабства.
Роман Виктора Пелевина «S.N.U.F.F.» (2011) является острой сатирой на медиаиндустрию и новостную культуру, где информация превращается в инструмент манипуляции и развлечения. Вот ключевые аспекты, связывающие роман с критикой новостей:
1. «Снаффы» как пародия на новостные репортажи
В романе «S.N.U.F.F.» (аббревиатура от «Special Newsreel/Universal Feature Film») — это гибрид пропагандистских новостей и постановочного кино, где реальные войны инсценируются для съёмок. Пелевин высмеивает подмену журналистики шоу-бизнесом:
«Снафф — это когда ты снимаешь реальную смерть, а потом монтируешь её под музыку, чтобы зрители не скучали». Отсылка к Ницше. Настоящее зрелище - арлекин перепрыгнул через пустопляса, тот упал с каната - это репортажи, которые так делаются.
Это прямая отсылка к современным медиа, где трагедии превращаются в контент для повышения рейтингов.
2. Манипуляция реальностью
Главный герой, оператор дрона Дамилола Карпов, создаёт «формальные поводы» для войн, чтобы снять эффектные кадры. Это пародия на фейковые новости и пропаганду:
«Мы не фальсифицируем реальность. Мы просто помогаем ей родиться в удобном месте и в нужное время».
Такие сцены отсылают к практике «вбросов» в СМИ, когда события провоцируются ради освещения.
3. Критика инфотейнмента
Пелевин показывает, как новости становятся частью развлекательной индустрии:
- Слияние войны и порно: Войны снимаются с участием «звёзд» в костюмах Бэтмена и Черепашек-ниндзя, а кровавые кадры монтируются с эротическими сценами.
- Цинизм зрителей: Жители «Большого Виза» (технологической элиты) воспринимают смерть «орков» (жителей Уркаины) как шоу:
4. «Дискурс-монгеры» и пропаганда
Персонажи вроде Бернара-Анри (намёк на реального философа Бернара-Анри Леви) — это провокаторы, которых нанимают для создания «правильного» информационного фона. Их задача — под видом правозащитников разжигать конфликты:
«Дискурс-монгер — это тот, кто получает деньги за то, чтобы его ненавидели обе стороны».
Это сатира на заказные расследования и ангажированных журналистов.
5. Алгоритмы вместо этики
Мир «S.N.U.F.F.» управляется Маниту — богом-алгоритмом, объединяющим деньги, медиа и власть. Новости здесь генерируются не ради истины, а для обслуживания системы:
«Маниту — это монитор, в который ты смотришься, как в зеркало, и видишь только то, что он хочет показать» readly.ru.
Это отражение современных алгоритмов соцсетей, формирующих картину мира под запросы аудитории.
6. Связь с реальностью
Пелевин пародирует конкретные медиатренды 2000–2010-х:
- «Русский мир» vs «орки»: Конфликт «Большого Виза» и Уркаины отсылает к российско-украинским отношениям, а риторика о «варварах» высмеивает пропагандистские клише.
- Телевизионные «аналитики»: Персонажи вроде Презиратора (пародия на Толкиенавского Саурона) комментируют войны в стиле ток-шоу:
Итог
«S.N.U.F.F.» — это не просто сатира на новости, а диагноз эпохи, где медиа стали новой религией. Пелевин показывает, как СМИ превращают реальность в нарратив, а зрителей — в соучастников спектакля. Как отмечает литературовед С. Шакиров:
«Пелевин доводит до абсурда идею „общества спектакля“, где даже смерть — часть сценария».
Роман остаётся актуальным в эру deepfake и TikTok-войн, напоминая, что за каждым «спецрепортажем» может скрываться чья-то режиссура.
Цитаты литературоведов:
- С. Корнев замечает, что творчество Пелевина не воспринимается почитателем классики как «серьёзное», и относит его к ведомству юмора. gramota.net
- Вячеслав Курицын в статье «Великие мифы и скромные деконструкции» высказал мысль, что Пелевин «с редкой настойчивостью повторяет из текста в текст ситуацию неравенства субъекта самому себе». stihi.ru
- Г. Муриков в статье «Параллельные миры. ХХI век» отмечает, что Пелевин «отрицает реальность и одновременно создаёт новый идеальный, а в чём-то и по-старомодному романтический мир». kartaslov.ru
- Н. В. Соломонова считает, что ирония Пелевина не столько тотальна, сколько утончённа и беспощадна: опытный писатель осознаёт относительность своего языка, своего дискурса и потому открыт для коммуникации в другом языке и взаимодействия с другим дискурсом. gramota.net