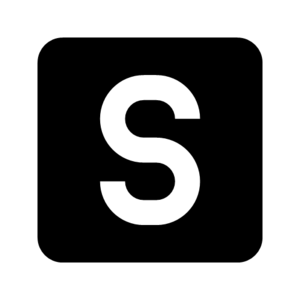Виды композиции
Композиция бывает линейная, обратная, кольцевая, концентрическая, фрагментарная, монтажная.
Понятие вида композиции
Композиция составляет основу субъектной организации текста и является одним из ключевых понятий в искусстве и литературе. Ее изучение может дать представление о том, как писатели организуют свои произведения, производя проекцию смысла в форму.
Художественное произведение представляет собой сложную структуру, состоящую из множества элементов. Композиция определяет форму, структуру, поэтику. В искусстве существуют два основных вида композиции: симметричная и асимметричная. В произведениях литературы преобладает, разумеется, ассимметрия, тем не менее, в некоторые исторические периоды авторы строят свои произведения, соблюдая соразмерность, которая может быть как на уровне строки, так и всего текста в целом. По воле автора выстраивается событийный ряд, расположение событий, деталей и мотивов.
Найти эти соразмерности - задача литературоведа.
На этой страничке мы рассмотрим различные виды композиции, их характеристики и применение для реализации авторского замысла.
Художественное произведение представляет собой сложную структуру, состоящую из множества элементов. Композиция определяет форму, структуру, поэтику. В искусстве существуют два основных вида композиции: симметричная и асимметричная. В произведениях литературы преобладает, разумеется, ассимметрия, тем не менее, в некоторые исторические периоды авторы строят свои произведения, соблюдая соразмерность, которая может быть как на уровне строки, так и всего текста в целом. По воле автора выстраивается событийный ряд, расположение событий, деталей и мотивов.
Найти эти соразмерности - задача литературоведа.
На этой страничке мы рассмотрим различные виды композиции, их характеристики и применение для реализации авторского замысла.
Преимущества курса «Чемодан Довлатова»
Откройте новые грани творчества с нашим курсом - писать по композиционным пунктам, выстраивая литературную карту, перемешивая композиционные поля и элементы!
Каждая вещь, оставленная в чемодане и забытая, стала для автора отдельной главой, опорой для потока сознания. Поток сознания, привязанный к детали - конструктивный принцип монтажной композиции "чемодан".
Каждая вещь, оставленная в чемодане и забытая, стала для автора отдельной главой, опорой для потока сознания. Поток сознания, привязанный к детали - конструктивный принцип монтажной композиции "чемодан".
- Вдохновение и идеиУчитесь у мастеров слова и создавайте уникальные истории на основе ваших забытых вещей. Используйте элементы монтажной композиции для придумывания собственных историй
- Развитие креативностиТренируйте воображение и учитесь видеть необычное в обыденном.
- Практические навыкиОсвоите приёмы сторителлинга и научитесь писать увлекательно.
Научим вас использовать и другие виды композиции.
Ждем вашего звонка!
«Весь мир — театр и драматурги в нем пассажиры: разомкнутая зеркальная композиция в стихотворении А. Болдырева «По улочкам старым Змиёвки…»
По улочкам старым Змиёвки,
что сверху похожи на ребус,
с конечной летит остановки
полночный дежурный троллейбус.
Сегодня от детского сада
до морга катал он по кругу
подвыпившего Александра —
непризнанного драматурга,
что бросил писать, не колеблясь,
в припадке превышенной дозы.
Везет его в полночь троллейбус,
рогами цепляясь за звезды.
Везет его за город, в поле,
сквозь сна спиртовые объятья,
туда, где пасутся на воле
троллейбуса дикие братья.
Троллейбусов списанных стая —
прекрасное чудо природы —
пьют воду речную, склоняя
троллейбусьи грустные морды.
И, глядя на месяц вальяжный,
передние бамперы скалят,
и долго, печально, протяжно
сигналят, сигналят, сигналят.
А утром туманным, прохладным,
лишь только расходится стадо,
троллейбус в депо мчит, на заднем
сиденье везя Александра.
С лицом, просветлевшим под утро,
во сне сочиняет он пьесу
о том, как в ночи драматурга
бездушный похитил троллейбус.
Фраза «Весь мир — театр» восходит к монологу Жака в комедии У. Шекспира «Как вам это понравится». В эпоху Возрождения она выражала идею предопределённости человеческих ролей и представления о жизни как череде актов. В поэзии XX–XXI веков эта максима переосмысляется как метод конструирования текста: мир творится по законам сцены, а границы сцены размыты. Пастернак трансформирует шекспировскую метафору, превращая её в инструмент для исследования экзистенциальных тем: судьбы, выбора, одиночества, перерождения. В «Гамлете» театр становится моделью мироустройства, а в «Марбурге» — способом осмыслить личный опыт. Предшественники А.Болдырева констатируют: поэтический текст может конструироваться по законам сцены, и не обязательно это сцена с раскрытым занавесом. А Болдырев начинает вписывать свои конструкты в старый концепт: занавес может упасть в любой момент – и тогда смерть поэта, крематорий драматурга или просто Змиевка как тупик всякого правильного, успешного звездного пути, потому и размыкается зеркальная композиция, уводя в тупик.
Конструкционный выбор поэта - зеркальная композиция с утеканием в точку невозврата, именно такое построение становится инструментом создания «театрально-трамвайного» мирообраза. Уже первая строфа вовлекает в закулисье драматического алгоритма с железным Пегасом. Город предстаёт закодированным пространством, требующим расшифровки. Троллейбус, «летящий» с конечной остановки, становится транспортным средством между мирами. Он переносит героя из повседневности в зону мифа-метатекста. Не в первый раз в истории литературы утилитарное становится сакральным, однако здесь нечто особенное.
По улочкам старым Змиёвки,
что сверху похожи на ребус,
с конечной летит остановки
полночный дежурный троллейбус.
Пассажир ноосферы отключился, и Пегас унес его в свое стойло, а там невероятная красота изнанки олимпа. Ночная атмосфера усиливает эффект ирреальности: пассажир «отключился», и его сознание, подобно безжизненному, обезмысленному телу, уносится Пегасом в иное измерение, к ключам, из которых пьют носители городских мифов.
Троллейбусов списанных стая —
прекрасное чудо природы —
пьют воду речную, склоняя
троллейбусьи грустные морды.
Зеркальность в тексте реализуется на нескольких уровнях, образуя систему отражений: на уровне пространственном (город — поле — депо), на уровне временном (ночь — утро — вечность), персонажном (драматург — пассажир — герой пьесы), и, наконец, образном (троллейбус — животное — символ). Маршрут троллейбуса —траектория кругового движения, повтора, бесконечного перелопачивания старых сюжетов. Работает и метафора жизненного цикла: от повседневности улочки Змиёвки через мифическое поле к депо как точке возврата и нового начала. Временная ось выстраивается подобно диалектике гибели и возрождения: ночная утрата контроля сменяется утренним катарсисом, просветлением сознания, а подтекст вечности присутствует в «диких братьях» троллейбусов, существующих вне времени, поскольку их вычеркнули из жизни – это классики, которых заездили. Весь ночной эпизод — метатеатральный трюк: зритель видит «изнанку Олимпа», там привычные объекты раскрываются в своей мифологической сущности. Троллейбусы - средство передвижения по пространству мировой драматургии, и только пьяненьких призовет их изнанка, только не считающие себя достойными по законам все той же мармеладовской теодицеи увидят истину – пусть во сне. Нет никакого Олимпа и Парнаса- есть трамвайный отстойник в закутке разомкнутого круга-арены. Здесь зона невозврата. Лишь пройдя точку невозврата по законам антиэнтропии можно воскреснуть для мира искусства.
Лирический герой проходит три стадии самоопределения, отражающие этапы творческого акта: от «непризнанного драматурга», отказавшегося от призвания, к пассивной роли пассажира и, наконец, к позиции автора пьесы. Центральный образ — троллейбус — обретает гибридную природу: как техника он принадлежит городу, как животное — природе. Его «дикие братья» у реки становятся отражением героя, его «иным я», живущим уже по законам природы, поскольку их цивилизационное бытование окончено. Река при этом выполняет функцию универсального зеркала, связывающего небо, землю и человека, сидящего в самом конце салона своего Пегаса.
Заключительные строки замыкают круг:
А утром туманным, прохладным…
с лицом, просветлевшим под утро,
во сне сочиняет он пьесу…
Герой возвращается в реальность, но уже в новой роли — автора, превращающего пережитое в метатексте в текст. Так реализуется главная идея «театрального» мирообраза. Троллейбус-Пегас, река-зеркало, поле-сцена — всё становится элементами единого спектакля, и человек в нем одновременно актёр, зритель и драматург.
Зеркальная композиция в стихотворении становится механизмом смолообразования: пространство дороги отражается в мифе, время движения делает крюк в вечности, личность — в персонаже, реальность — в театре. Троллейбус, река, поле, депо превращаются в сцену, в ней разыгрывается вечный спектакль захолустного существования. В этом — современное прочтение шекспировской максимы «весь мир — театр». Что мы видим: драматург так и не просыпался, автор следует за его телом и видит его сон, в котором из хаоса неувиденных и неосмысленных впечатлений рождается художественный космос.
Автор разбора стиха Ольга Чернорицкая
По улочкам старым Змиёвки,
что сверху похожи на ребус,
с конечной летит остановки
полночный дежурный троллейбус.
Сегодня от детского сада
до морга катал он по кругу
подвыпившего Александра —
непризнанного драматурга,
что бросил писать, не колеблясь,
в припадке превышенной дозы.
Везет его в полночь троллейбус,
рогами цепляясь за звезды.
Везет его за город, в поле,
сквозь сна спиртовые объятья,
туда, где пасутся на воле
троллейбуса дикие братья.
Троллейбусов списанных стая —
прекрасное чудо природы —
пьют воду речную, склоняя
троллейбусьи грустные морды.
И, глядя на месяц вальяжный,
передние бамперы скалят,
и долго, печально, протяжно
сигналят, сигналят, сигналят.
А утром туманным, прохладным,
лишь только расходится стадо,
троллейбус в депо мчит, на заднем
сиденье везя Александра.
С лицом, просветлевшим под утро,
во сне сочиняет он пьесу
о том, как в ночи драматурга
бездушный похитил троллейбус.
Фраза «Весь мир — театр» восходит к монологу Жака в комедии У. Шекспира «Как вам это понравится». В эпоху Возрождения она выражала идею предопределённости человеческих ролей и представления о жизни как череде актов. В поэзии XX–XXI веков эта максима переосмысляется как метод конструирования текста: мир творится по законам сцены, а границы сцены размыты. Пастернак трансформирует шекспировскую метафору, превращая её в инструмент для исследования экзистенциальных тем: судьбы, выбора, одиночества, перерождения. В «Гамлете» театр становится моделью мироустройства, а в «Марбурге» — способом осмыслить личный опыт. Предшественники А.Болдырева констатируют: поэтический текст может конструироваться по законам сцены, и не обязательно это сцена с раскрытым занавесом. А Болдырев начинает вписывать свои конструкты в старый концепт: занавес может упасть в любой момент – и тогда смерть поэта, крематорий драматурга или просто Змиевка как тупик всякого правильного, успешного звездного пути, потому и размыкается зеркальная композиция, уводя в тупик.
Конструкционный выбор поэта - зеркальная композиция с утеканием в точку невозврата, именно такое построение становится инструментом создания «театрально-трамвайного» мирообраза. Уже первая строфа вовлекает в закулисье драматического алгоритма с железным Пегасом. Город предстаёт закодированным пространством, требующим расшифровки. Троллейбус, «летящий» с конечной остановки, становится транспортным средством между мирами. Он переносит героя из повседневности в зону мифа-метатекста. Не в первый раз в истории литературы утилитарное становится сакральным, однако здесь нечто особенное.
По улочкам старым Змиёвки,
что сверху похожи на ребус,
с конечной летит остановки
полночный дежурный троллейбус.
Пассажир ноосферы отключился, и Пегас унес его в свое стойло, а там невероятная красота изнанки олимпа. Ночная атмосфера усиливает эффект ирреальности: пассажир «отключился», и его сознание, подобно безжизненному, обезмысленному телу, уносится Пегасом в иное измерение, к ключам, из которых пьют носители городских мифов.
Троллейбусов списанных стая —
прекрасное чудо природы —
пьют воду речную, склоняя
троллейбусьи грустные морды.
Зеркальность в тексте реализуется на нескольких уровнях, образуя систему отражений: на уровне пространственном (город — поле — депо), на уровне временном (ночь — утро — вечность), персонажном (драматург — пассажир — герой пьесы), и, наконец, образном (троллейбус — животное — символ). Маршрут троллейбуса —траектория кругового движения, повтора, бесконечного перелопачивания старых сюжетов. Работает и метафора жизненного цикла: от повседневности улочки Змиёвки через мифическое поле к депо как точке возврата и нового начала. Временная ось выстраивается подобно диалектике гибели и возрождения: ночная утрата контроля сменяется утренним катарсисом, просветлением сознания, а подтекст вечности присутствует в «диких братьях» троллейбусов, существующих вне времени, поскольку их вычеркнули из жизни – это классики, которых заездили. Весь ночной эпизод — метатеатральный трюк: зритель видит «изнанку Олимпа», там привычные объекты раскрываются в своей мифологической сущности. Троллейбусы - средство передвижения по пространству мировой драматургии, и только пьяненьких призовет их изнанка, только не считающие себя достойными по законам все той же мармеладовской теодицеи увидят истину – пусть во сне. Нет никакого Олимпа и Парнаса- есть трамвайный отстойник в закутке разомкнутого круга-арены. Здесь зона невозврата. Лишь пройдя точку невозврата по законам антиэнтропии можно воскреснуть для мира искусства.
Лирический герой проходит три стадии самоопределения, отражающие этапы творческого акта: от «непризнанного драматурга», отказавшегося от призвания, к пассивной роли пассажира и, наконец, к позиции автора пьесы. Центральный образ — троллейбус — обретает гибридную природу: как техника он принадлежит городу, как животное — природе. Его «дикие братья» у реки становятся отражением героя, его «иным я», живущим уже по законам природы, поскольку их цивилизационное бытование окончено. Река при этом выполняет функцию универсального зеркала, связывающего небо, землю и человека, сидящего в самом конце салона своего Пегаса.
Заключительные строки замыкают круг:
А утром туманным, прохладным…
с лицом, просветлевшим под утро,
во сне сочиняет он пьесу…
Герой возвращается в реальность, но уже в новой роли — автора, превращающего пережитое в метатексте в текст. Так реализуется главная идея «театрального» мирообраза. Троллейбус-Пегас, река-зеркало, поле-сцена — всё становится элементами единого спектакля, и человек в нем одновременно актёр, зритель и драматург.
Зеркальная композиция в стихотворении становится механизмом смолообразования: пространство дороги отражается в мифе, время движения делает крюк в вечности, личность — в персонаже, реальность — в театре. Троллейбус, река, поле, депо превращаются в сцену, в ней разыгрывается вечный спектакль захолустного существования. В этом — современное прочтение шекспировской максимы «весь мир — театр». Что мы видим: драматург так и не просыпался, автор следует за его телом и видит его сон, в котором из хаоса неувиденных и неосмысленных впечатлений рождается художественный космос.
Автор разбора стиха Ольга Чернорицкая
«Дневник пассажира»
Задача: напишите монолог от лица Александра (непризнанного драматурга), который он мог бы произнести во время поездки. Включите:
отсылки к образам стихотворения (ребус‑улицы, река, «дикие братья»);
размышления о творчестве и отказе от него;
диалог с троллейбусом как живым существом.
Формат: 10–12 предложений. Используйте разговорную интонацию, но сохраните поэтическую образность оригинала.
Задача: напишите монолог от лица Александра (непризнанного драматурга), который он мог бы произнести во время поездки. Включите:
отсылки к образам стихотворения (ребус‑улицы, река, «дикие братья»);
размышления о творчестве и отказе от него;
диалог с троллейбусом как живым существом.
Формат: 10–12 предложений. Используйте разговорную интонацию, но сохраните поэтическую образность оригинала.
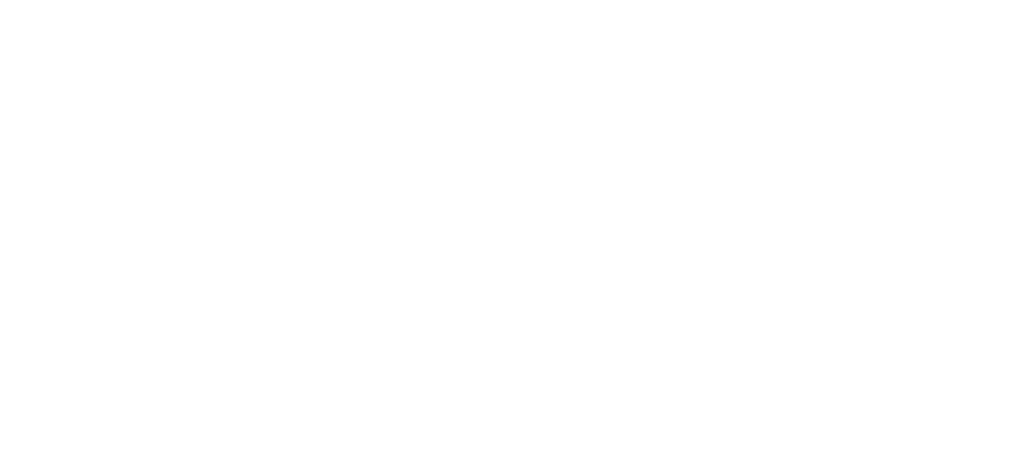
Линейная композиция характеризуется непрерывающимся линейным действием – мы следим за героем – каждым его действием от входа в театр до подъезда, откуда он направляется домой переодеться. Здесь линейная композиция усложнена монтажной.
Все хлопает. Онегин входит,
Идет меж кресел по ногам,
Двойной лорнет скосясь наводит
На ложи незнакомых дам;
Все ярусы окинул взором,
Все видел: лицами, убором
Ужасно недоволен он;
С мужчинами со всех сторон
Раскланялся, потом на сцену
В большом рассеянье взглянул,
Отворотился - и зевнул,
И молвил: "Всех пора на смену;
Балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоел" {5}.
XXII
Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;
Еще усталые лакеи
На шубах у подъезда спят;
Еще не перестали топать,
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать;
Еще снаружи и внутри
Везде блистают фонари;
Еще, прозябнув, бьются кони,
Наскуча упряжью своей,
И кучера, вокруг огней,
Бранят господ и бьют в ладони -
А уж Онегин вышел вон;
Домой одеться едет он.
Обратная:
Ретроспективная композиция характеризуется значительной долей изображения событий «до основной истории».
В аллею чёрные спустились небеса,
Но сердцу в эту ночь не превозмочь усталость...
Погасшие огни, немые голоса, -
Неужто это всё, что от мечты осталось?
О, как печален был одежд её атлас,
И вырез жутко бел среди наплечий чёрных!
Как жалко было мне её недвижных глаз
И снежной лайки рук, молитвенно-покорных!
А сколько было там развеяно души
Среди рассеянных, мятежных и бесслёзных!
Что звуков пролито, взлелеянных в тиши,
Сиреневых, и ласковых, и звёздных!
Так с нити порванной в волненьи иногда,
Средь месячных лучей, и нежны и огнисты,
В росистую траву катятся аметисты
И гибнут без следа.
(И.Анненский. После концерта)
Происходившее после концерта, рефлексия, стоит в начале стихотворения.
Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба;
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.
(А.Пушкин. «Евгений Онегин»)
Был вещим этот сон или не вещим…
Марс воссиял среди небесных звезд,
Он алым стал, искрящимся, зловещим, —
А мне в ту ночь приснился твоей приезд.
Он был во всем… И в баховской Чаконе,
И в розах, что напрасно расцвели,
И в деревенском колокольном звоне
Над чернотой распаханной земли.
И в осени, что подошла вплотную
И вдруг, раздумав, спряталась опять.
О август мой, как мог ты весть такую
Мне в годовщину страшную отдать!
Чем отплачу за царственный подарок?
Куда идти и с кем торжествовать?
И вот пишу, как прежде без помарок,
Мои стихи в сожженную тетрадь.
9
По той дороге, где Донской
Вел рать великую когда-то,
Где ветер помнит супостата,
Где месяц желтый и рогатый, —
Я шла, как в глубине морской…
Шиповник так благоухал,
Что даже превратился в слово,
И встретить я была готова
Моей судьбы девятый вал.
(А.Ахматова. Шиповник цветет)
Сложное переслетение перспектив возвращает нас в ту тетрадь, что давно сожжена.
В обратной перспективе мы узнаем, что Раскольников в "Преступлении и наказании" Достоевского всегда помогал бедным, а задумал убить старуху уже тогда, когда помогать нуждающимся было нечем. Так мы узнаем психологический мотив убийства: если человеку нравится помогать, то ради этого он готов на все.
Фрагментарная, асимметричная
Т.А.Гофман. Житейские воззрения кота Мурра. "Книга пошла в печать, и вскоре к издателю пришли на просмотр первые оттиски набранных страниц. Представьте себе, однако, до чего испуган был издатель, когда убедился, что история Мурра прерывается во многих местах и перемежается с какими-то иными эпизодами, с фрагментами совершенно иной книги, содержащей повествование о жизни капельмейстера Иоганнеса Крейслера".
По ошибке издателя композиция стала фрагментарной.
М.Ю.Лермонтов. Герой нашего времени. Каждая повесть дополняет представления о Печорине, но в то же время исполненный поэзии психологически углублённый «Журнал Печорина» контрастирует с поверхностным взглядом.
Максима Максимовича («Бэла»).
А. Твардовский «Василий Теркин»
Вся книга читается хоть с начала, хоть с конца одинаково, это разные эпизоды жизни бойца.
Кольцевая – симметричная в стихотворении Лермонтова "Бородино" - рассказ дяди начинается и заканчивается одними и теми же словами "Да, были люди в наше время".
Спиральная, асимметричная в «Герое нашего времени»
Разгадка героя происходит в результате сжимания кругов или приближения маятника, качающегося над героем. («Колодец и маятник» Э.По. ) Колодец- это спираль в обратную сторону. Так терял надежду Евгений Онегин, так терял надежду Троекуров – равно как терял надежду лирический герой «Ворона» Э.По.
«В первых двух -- "Бэла" и "Максим Максимыч" -- автор, или, говоря точнее, герой-рассказчик, любознательный путешественник, описывает свою поездку на Кавказ по Военно-Грузинской дороге в
1837 году или около того. Это Рассказчик 1. Выехав из Тифлиса в северном направлении, он знакомится в
пути со старым воякой по имени Максим Максимыч. Какое-то время они путешествуют вместе, и Максим Максимыч сообщает Рассказчику 1 о некоем Григории Александровиче Печорине, который, тому пять лет, неся военную службу в Чечне, севернее Дагестана, однажды умыкнул черкешенку. Максим Максимыч -- это Рассказчик 2, и
история его называется "Бэла". При следующем своем дорожном свидании ("Максим Максимыч")
Рассказчик 1 и Рассказчик 2 встречают самого Печорина. Последний становится Рассказчиком 3 -- ведь еще три истории
будут взяты из журнала Печорина, который Рассказчик 1 опубликует посмертно.
Внимательный читатель отметит, что весь фокус подобной композиции состоит в том, чтобы раз за разом приближать к нам
Печорина, пока наконец он сам не заговорит с нами, но к тому времени его уже не будет в живых. В первом рассказе Печорин находится от читателя на "троюродном" расстоянии, поскольку мы знаем о нем со слов Максима Максимыча да еще в передаче Рассказчика 1. Во второй истории Рассказчик 2 как бы самоустраняется, и Рассказчик 1 получает возможность увидеть Печорина собственными глазами. С каким трогательным нетерпением спешил Максим Максимыч предъявить своего героя в натуре. И вот перед нами три последних рассказа; теперь, когда Рассказчик 1 и
Рассказчик 2 отошли в сторону, мы оказываемся с Печориным лицом к лицу.
Из-за такой спиральной композиции временная последовательность оказывается как бы размытой. Рассказы
наплывают, разворачиваются перед нами, то все как на ладони, то словно в дымке, а то вдруг, отступив, появятся вновь уже в ином ракурсе или освещении, подобно тому как для путешественника
открывается из ущелья вид на пять вершин Кавказского хребта.
Этот путешественник -- Лермонтов, а не Печорин. Пять рассказов
располагаются друг за другом в том порядке, в каком события
становятся достоянием Рассказчика 1, однако хронология их иная;
в общих чертах она выглядит так:
1. Около 1830 года офицер Печорин, следуя по казенной
надобности из Санкт-Петербурга на Кавказ в действующий отряд,
останавливается в приморском городке Тамань (порт, отделенный
от северо-восточной оконечности полуострова Крым нешироким
проливом). История, которая с ним там приключилась, составляет
сюжет "Тамани", третьего по счету рассказа в романе.
2. В действующем отряде Печорин принимает участие в
стычках с горскими племенами и через некоторое время, 10 мая
1832 года, приезжает отдохнуть на воды, в Пятигорск. В
Пятигорске, а также в Кисловодске, близлежащем курорте, он
становится участником драматических событий, приводящих к тому,
что 17 июня он убивает на дуэли офицера. Обо всем этом он
повествует в четвертом рассказе -- "Княжна Мери".
3. 19 июня по приказу военного командования Печорин
переводится в крепость, расположенную в Чеченском крае, в
северо-восточной части Кавказа, куда он прибывает только осенью
(причины задержки не объяснены). Там он знакомится со
штабс-капитаном Максимом Максимычем. Об этом Рассказчик 1
узнает от Рассказчика 2 в "Бэле", с которой начинается роман.
4. В декабре того же года (1832) Печорин уезжает на две
недели из крепости в казачью станицу севернее Терека, где
приключается история, описанная им в пятом, последнем рассказе
-- "Фаталист".
5. Весною 1833 года он умыкает черкесскую девушку, которую
спустя четыре с половиной месяца убивает разбойник Казбич. В
декабре того же года Печорин уезжает в Грузию и в скором
времени возвращается в Петербург, Об этом мы узнаем в "Бэле".
6. Проходит около четырех лет, и осенью 1837 года
Рассказчик 1 и Рассказчик 2, держа путь на север, делают
остановку во Владикавказе и там встречают Печорина, который уже
опять на Кавказе, проездом в Персию. Об этом повествует
Рассказчик 1 в "Максиме Максимыче", втором рассказе цикла.
7. В 1838 .или 1839 году, возвращаясь из Персии, Печорин
умирает при обстоятельствах, возможно, подтвердивших
предсказание, что он погибнет в результате несчастливого брака.
Рассказчик 1 публикует посмертно его журнал, полученный от
Рассказчика 2. О смерти героя Рассказчик 1 упоминает в своем
предисловии (1841) к "Журналу Печорина", содержащему "Тамань",
"Княжну Мери" и "Фаталиста".
Таким образом, хронологическая последовательность пяти
рассказов, если говорить об их связи с биографией Печорина,
такова: "Тамань", "Княжна Мери", "Фаталист", "Бэла", "Максим
Максимыч".
Маловероятно, чтобы в процессе работы над "Бэлой"
Лермонтов уже имел сложившийся замысел "Княжны Мери".
Подробности приезда Печорина в крепость Каменный Брод,
сообщаемые Максимом Максимычем в "Бэле", не вполне совпадают с
деталями, упомянутыми самим Печориным в "Княжне Мери".
Во всех пяти рассказах немаЛо несообразностей, одна другой
примечательнее, однако повествование движется с такою
стремительностью и мощью, столько мужественной красоты в этой
романтике, от замысла же веет такой захватывающей цельностью,
что читателю просто не приходит в голову задуматься, из чего,
собственно, русалка в "Тамани" заключила, что Печорин не умеет
плавать, или почему драгунский капитан полагал, что секунданты
Печорина не найдут нужным принять участие в заряживании
пистолетов. Положение, в каком оказывается Печорин, вынужденный
в конце концов подставить лоб под дуло пистолета Грушницкого,
могло бы выглядеть куда как нелепо, если забыть о том, что наш
герой полагался отнюдь не на случай, но на судьбу. Об этом
совершенно недвусмысленно говорит последний и, надо сказать,
лучший рассказ -- "Фаталист", важнейшая сцена которого также
построена на предположении, заряжен пистолет или не заряжен, и
в котором между Печориным и Вуличем происходит как бы заочная
дуэль, где все предуготовления к смерти берет на себя не
фатоватый драгунский капитан, но сама Судьба».
(В.Набоков)
Концентрическая, симметричная
«Колобок» - поет каждому персонажу одну и ту же песню, а потом убегает.
В стихах, когда повторяется одно и то же несколько раз.
Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.
Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна - любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.
И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна - вся жизнь, что ты одна - любовь,
Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!
(А.Фет)
Зеркальная. симметричная
А.Пушкин. Е.Онегин
Встреча на людях – безответные письма – томление – встреча – отказ. Относятся и к Татьяне, и к Евгению.
Ценности зеркально отражены у героев: светская жизнь, свобода, любовь, семья. Он находит то, что она уже утратила.
А.Пушкин «Капитанская дочка». Беда с Машей – Гринев просит милости крестьянского царя. – Беда с Петрушей – Маша просит милости императрицы.
В "тут" все совсем не так, как в "там", хотя на самом деле
Маятник (на уровне строки) - благодаря цезуре в строке ощущение раскачивания маятника. Симметричная.
Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.
Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.
Плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.
Плывет во мгле замоскворецкой,
пловец в несчастие случайный,
блуждает выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый год, под воскресенье,
плывет красотка записная,
своей тоски не объясняя.
Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник
над головою.
Твой Новый год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.
(И.Бродский. Рождественский романс)
В Каком городе находится лирический герой? Найдите топонимы. Проложите его маршрут от Александровского сада через мост влюбленный и разрушенный Храм Христа спасителя в Замоскворечье к кондитерской фабрике "Красный октябрь", где "пахнет сладкою халвою".
Все хлопает. Онегин входит,
Идет меж кресел по ногам,
Двойной лорнет скосясь наводит
На ложи незнакомых дам;
Все ярусы окинул взором,
Все видел: лицами, убором
Ужасно недоволен он;
С мужчинами со всех сторон
Раскланялся, потом на сцену
В большом рассеянье взглянул,
Отворотился - и зевнул,
И молвил: "Всех пора на смену;
Балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоел" {5}.
XXII
Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;
Еще усталые лакеи
На шубах у подъезда спят;
Еще не перестали топать,
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать;
Еще снаружи и внутри
Везде блистают фонари;
Еще, прозябнув, бьются кони,
Наскуча упряжью своей,
И кучера, вокруг огней,
Бранят господ и бьют в ладони -
А уж Онегин вышел вон;
Домой одеться едет он.
Обратная:
Ретроспективная композиция характеризуется значительной долей изображения событий «до основной истории».
В аллею чёрные спустились небеса,
Но сердцу в эту ночь не превозмочь усталость...
Погасшие огни, немые голоса, -
Неужто это всё, что от мечты осталось?
О, как печален был одежд её атлас,
И вырез жутко бел среди наплечий чёрных!
Как жалко было мне её недвижных глаз
И снежной лайки рук, молитвенно-покорных!
А сколько было там развеяно души
Среди рассеянных, мятежных и бесслёзных!
Что звуков пролито, взлелеянных в тиши,
Сиреневых, и ласковых, и звёздных!
Так с нити порванной в волненьи иногда,
Средь месячных лучей, и нежны и огнисты,
В росистую траву катятся аметисты
И гибнут без следа.
(И.Анненский. После концерта)
Происходившее после концерта, рефлексия, стоит в начале стихотворения.
Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба;
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.
(А.Пушкин. «Евгений Онегин»)
Был вещим этот сон или не вещим…
Марс воссиял среди небесных звезд,
Он алым стал, искрящимся, зловещим, —
А мне в ту ночь приснился твоей приезд.
Он был во всем… И в баховской Чаконе,
И в розах, что напрасно расцвели,
И в деревенском колокольном звоне
Над чернотой распаханной земли.
И в осени, что подошла вплотную
И вдруг, раздумав, спряталась опять.
О август мой, как мог ты весть такую
Мне в годовщину страшную отдать!
Чем отплачу за царственный подарок?
Куда идти и с кем торжествовать?
И вот пишу, как прежде без помарок,
Мои стихи в сожженную тетрадь.
9
По той дороге, где Донской
Вел рать великую когда-то,
Где ветер помнит супостата,
Где месяц желтый и рогатый, —
Я шла, как в глубине морской…
Шиповник так благоухал,
Что даже превратился в слово,
И встретить я была готова
Моей судьбы девятый вал.
(А.Ахматова. Шиповник цветет)
Сложное переслетение перспектив возвращает нас в ту тетрадь, что давно сожжена.
В обратной перспективе мы узнаем, что Раскольников в "Преступлении и наказании" Достоевского всегда помогал бедным, а задумал убить старуху уже тогда, когда помогать нуждающимся было нечем. Так мы узнаем психологический мотив убийства: если человеку нравится помогать, то ради этого он готов на все.
Фрагментарная, асимметричная
Т.А.Гофман. Житейские воззрения кота Мурра. "Книга пошла в печать, и вскоре к издателю пришли на просмотр первые оттиски набранных страниц. Представьте себе, однако, до чего испуган был издатель, когда убедился, что история Мурра прерывается во многих местах и перемежается с какими-то иными эпизодами, с фрагментами совершенно иной книги, содержащей повествование о жизни капельмейстера Иоганнеса Крейслера".
По ошибке издателя композиция стала фрагментарной.
М.Ю.Лермонтов. Герой нашего времени. Каждая повесть дополняет представления о Печорине, но в то же время исполненный поэзии психологически углублённый «Журнал Печорина» контрастирует с поверхностным взглядом.
Максима Максимовича («Бэла»).
А. Твардовский «Василий Теркин»
Вся книга читается хоть с начала, хоть с конца одинаково, это разные эпизоды жизни бойца.
Кольцевая – симметричная в стихотворении Лермонтова "Бородино" - рассказ дяди начинается и заканчивается одними и теми же словами "Да, были люди в наше время".
Спиральная, асимметричная в «Герое нашего времени»
Разгадка героя происходит в результате сжимания кругов или приближения маятника, качающегося над героем. («Колодец и маятник» Э.По. ) Колодец- это спираль в обратную сторону. Так терял надежду Евгений Онегин, так терял надежду Троекуров – равно как терял надежду лирический герой «Ворона» Э.По.
«В первых двух -- "Бэла" и "Максим Максимыч" -- автор, или, говоря точнее, герой-рассказчик, любознательный путешественник, описывает свою поездку на Кавказ по Военно-Грузинской дороге в
1837 году или около того. Это Рассказчик 1. Выехав из Тифлиса в северном направлении, он знакомится в
пути со старым воякой по имени Максим Максимыч. Какое-то время они путешествуют вместе, и Максим Максимыч сообщает Рассказчику 1 о некоем Григории Александровиче Печорине, который, тому пять лет, неся военную службу в Чечне, севернее Дагестана, однажды умыкнул черкешенку. Максим Максимыч -- это Рассказчик 2, и
история его называется "Бэла". При следующем своем дорожном свидании ("Максим Максимыч")
Рассказчик 1 и Рассказчик 2 встречают самого Печорина. Последний становится Рассказчиком 3 -- ведь еще три истории
будут взяты из журнала Печорина, который Рассказчик 1 опубликует посмертно.
Внимательный читатель отметит, что весь фокус подобной композиции состоит в том, чтобы раз за разом приближать к нам
Печорина, пока наконец он сам не заговорит с нами, но к тому времени его уже не будет в живых. В первом рассказе Печорин находится от читателя на "троюродном" расстоянии, поскольку мы знаем о нем со слов Максима Максимыча да еще в передаче Рассказчика 1. Во второй истории Рассказчик 2 как бы самоустраняется, и Рассказчик 1 получает возможность увидеть Печорина собственными глазами. С каким трогательным нетерпением спешил Максим Максимыч предъявить своего героя в натуре. И вот перед нами три последних рассказа; теперь, когда Рассказчик 1 и
Рассказчик 2 отошли в сторону, мы оказываемся с Печориным лицом к лицу.
Из-за такой спиральной композиции временная последовательность оказывается как бы размытой. Рассказы
наплывают, разворачиваются перед нами, то все как на ладони, то словно в дымке, а то вдруг, отступив, появятся вновь уже в ином ракурсе или освещении, подобно тому как для путешественника
открывается из ущелья вид на пять вершин Кавказского хребта.
Этот путешественник -- Лермонтов, а не Печорин. Пять рассказов
располагаются друг за другом в том порядке, в каком события
становятся достоянием Рассказчика 1, однако хронология их иная;
в общих чертах она выглядит так:
1. Около 1830 года офицер Печорин, следуя по казенной
надобности из Санкт-Петербурга на Кавказ в действующий отряд,
останавливается в приморском городке Тамань (порт, отделенный
от северо-восточной оконечности полуострова Крым нешироким
проливом). История, которая с ним там приключилась, составляет
сюжет "Тамани", третьего по счету рассказа в романе.
2. В действующем отряде Печорин принимает участие в
стычках с горскими племенами и через некоторое время, 10 мая
1832 года, приезжает отдохнуть на воды, в Пятигорск. В
Пятигорске, а также в Кисловодске, близлежащем курорте, он
становится участником драматических событий, приводящих к тому,
что 17 июня он убивает на дуэли офицера. Обо всем этом он
повествует в четвертом рассказе -- "Княжна Мери".
3. 19 июня по приказу военного командования Печорин
переводится в крепость, расположенную в Чеченском крае, в
северо-восточной части Кавказа, куда он прибывает только осенью
(причины задержки не объяснены). Там он знакомится со
штабс-капитаном Максимом Максимычем. Об этом Рассказчик 1
узнает от Рассказчика 2 в "Бэле", с которой начинается роман.
4. В декабре того же года (1832) Печорин уезжает на две
недели из крепости в казачью станицу севернее Терека, где
приключается история, описанная им в пятом, последнем рассказе
-- "Фаталист".
5. Весною 1833 года он умыкает черкесскую девушку, которую
спустя четыре с половиной месяца убивает разбойник Казбич. В
декабре того же года Печорин уезжает в Грузию и в скором
времени возвращается в Петербург, Об этом мы узнаем в "Бэле".
6. Проходит около четырех лет, и осенью 1837 года
Рассказчик 1 и Рассказчик 2, держа путь на север, делают
остановку во Владикавказе и там встречают Печорина, который уже
опять на Кавказе, проездом в Персию. Об этом повествует
Рассказчик 1 в "Максиме Максимыче", втором рассказе цикла.
7. В 1838 .или 1839 году, возвращаясь из Персии, Печорин
умирает при обстоятельствах, возможно, подтвердивших
предсказание, что он погибнет в результате несчастливого брака.
Рассказчик 1 публикует посмертно его журнал, полученный от
Рассказчика 2. О смерти героя Рассказчик 1 упоминает в своем
предисловии (1841) к "Журналу Печорина", содержащему "Тамань",
"Княжну Мери" и "Фаталиста".
Таким образом, хронологическая последовательность пяти
рассказов, если говорить об их связи с биографией Печорина,
такова: "Тамань", "Княжна Мери", "Фаталист", "Бэла", "Максим
Максимыч".
Маловероятно, чтобы в процессе работы над "Бэлой"
Лермонтов уже имел сложившийся замысел "Княжны Мери".
Подробности приезда Печорина в крепость Каменный Брод,
сообщаемые Максимом Максимычем в "Бэле", не вполне совпадают с
деталями, упомянутыми самим Печориным в "Княжне Мери".
Во всех пяти рассказах немаЛо несообразностей, одна другой
примечательнее, однако повествование движется с такою
стремительностью и мощью, столько мужественной красоты в этой
романтике, от замысла же веет такой захватывающей цельностью,
что читателю просто не приходит в голову задуматься, из чего,
собственно, русалка в "Тамани" заключила, что Печорин не умеет
плавать, или почему драгунский капитан полагал, что секунданты
Печорина не найдут нужным принять участие в заряживании
пистолетов. Положение, в каком оказывается Печорин, вынужденный
в конце концов подставить лоб под дуло пистолета Грушницкого,
могло бы выглядеть куда как нелепо, если забыть о том, что наш
герой полагался отнюдь не на случай, но на судьбу. Об этом
совершенно недвусмысленно говорит последний и, надо сказать,
лучший рассказ -- "Фаталист", важнейшая сцена которого также
построена на предположении, заряжен пистолет или не заряжен, и
в котором между Печориным и Вуличем происходит как бы заочная
дуэль, где все предуготовления к смерти берет на себя не
фатоватый драгунский капитан, но сама Судьба».
(В.Набоков)
Концентрическая, симметричная
«Колобок» - поет каждому персонажу одну и ту же песню, а потом убегает.
В стихах, когда повторяется одно и то же несколько раз.
Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.
Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна - любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.
И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна - вся жизнь, что ты одна - любовь,
Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!
(А.Фет)
Зеркальная. симметричная
А.Пушкин. Е.Онегин
Встреча на людях – безответные письма – томление – встреча – отказ. Относятся и к Татьяне, и к Евгению.
Ценности зеркально отражены у героев: светская жизнь, свобода, любовь, семья. Он находит то, что она уже утратила.
А.Пушкин «Капитанская дочка». Беда с Машей – Гринев просит милости крестьянского царя. – Беда с Петрушей – Маша просит милости императрицы.
Едет поезд через реку,
Едет поезд по мосту
И попыхивает кверху
Гордо поднятой трубой.
Там, конечно, пассажиры
Все на лавочках сидят.
Там, конечно, пассажиры
Масло с курицей едят.
Там, конечно, пассажирам
К чаю сахар подают.
И конечно, пассажиры
Песни радостно поют.
Но такой же точно поезд
Отражается в воде.
И труба его большая
Почему-то смотрит вниз.
Там, наверно, пассажиры
Безбилетные сидят.
Там, наверно, пассажиры
Целый день в окно глядят.
Там, наверно, пассажирам
Чай вообще не подают.
И, конечно, пассажиры
Песни грустные поют.
На мосту остановился
Поезд — эх! — на пять минут.
Размышляют пассажиры:
ТАМ мы едем или ТУТ?
(В.Друк)В "тут" все совсем не так, как в "там", хотя на самом деле
Маятник (на уровне строки) - благодаря цезуре в строке ощущение раскачивания маятника. Симметричная.
Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.
Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.
Плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.
Плывет во мгле замоскворецкой,
пловец в несчастие случайный,
блуждает выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый год, под воскресенье,
плывет красотка записная,
своей тоски не объясняя.
Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник
над головою.
Твой Новый год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.
(И.Бродский. Рождественский романс)
В Каком городе находится лирический герой? Найдите топонимы. Проложите его маршрут от Александровского сада через мост влюбленный и разрушенный Храм Христа спасителя в Замоскворечье к кондитерской фабрике "Красный октябрь", где "пахнет сладкою халвою".
Маятник - благодаря цезуре в строке ощущение раскачивания маятника. Найдите в других стихах Бродского интересные виды композиции. Как бы вы назвали их?
Плывет в тоске необьяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.
Плывет в тоске необьяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.
Плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.
Плывет во мгле замоскворецкой,
пловец в несчастие случайный,
блуждает выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый год, под воскресенье,
плывет красотка записная,
своей тоски не обьясняя.
Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник
над головою.
Твой Новый год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необьяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.
(И.Бродский. Рождественский романс)

Композиция Лента Мебиуса
Прочитайте стихотворение Пастернака «Снег идет». Докажите, что здесь лента Мебиуса. В каких стихах поэтов еще встречается подобная композиция?
Снег идет
Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.
Снег идет, и всё в смятеньи,
Всё пускается в полет, -
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.
Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.
Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.
Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься — и святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и новый год.
Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?
Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет,
Или как слова в поэме?
Снег идет, снег идет,
Снег идет, и всё в смятеньи:
Убеленный пешеход,
Удивленные растенья,
Перекрестка поворот.
(Б.Пастернак)
Снег идет
Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.
Снег идет, и всё в смятеньи,
Всё пускается в полет, -
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.
Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.
Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.
Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься — и святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и новый год.
Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?
Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет,
Или как слова в поэме?
Снег идет, снег идет,
Снег идет, и всё в смятеньи:
Убеленный пешеход,
Удивленные растенья,
Перекрестка поворот.
(Б.Пастернак)
Лента мебиуса в постмодернизме
Постмодернизм взял в свою основу композицию ленты Мебиуса, переходящую в бутылку Клейна (нет ничего снаружи, нет ничего внутри), известную нам по рассказу Гоголя «Нос». Пелевин в "Жизни насекомых", "Лампе Масуфаила" продолжил Гоголя не только в плане композиции прохождения по одной плоскости, но разным сторонам (носа и майора Ковалева) – по разным сторонам ленты идут чекисты и масоны, вата и цивилизация, расследования и написания детективов, но это на самом деле одна сторона.
Насекомых можно было бы отнести к ничтожным существам, если бы не лента Мебиуса, имеющая одну плоскость для всех существ.
Разнятся лишь стили существования, но и в этом Гоголь, разделивший мир на пять стилей по количеству помещиков в «Мертвых душах» - от гламура Манилова до авангарда Плюшкина. Насекомые Пелевина – это стили, в которых он работает. Жук-скарабей – это информативные его тексты, он собирает всякое в ком, и ощущение кома дает нам плюшкинскую кучу, где все, весь мир в состоянии навоза, причем этот навоз производит сам мир. Роющий таракан – это автор, роющий вглубь, видящий смыслы и т.д. Все насекомые – это один автор в разных функциях.
Насекомых можно было бы отнести к ничтожным существам, если бы не лента Мебиуса, имеющая одну плоскость для всех существ.
Разнятся лишь стили существования, но и в этом Гоголь, разделивший мир на пять стилей по количеству помещиков в «Мертвых душах» - от гламура Манилова до авангарда Плюшкина. Насекомые Пелевина – это стили, в которых он работает. Жук-скарабей – это информативные его тексты, он собирает всякое в ком, и ощущение кома дает нам плюшкинскую кучу, где все, весь мир в состоянии навоза, причем этот навоз производит сам мир. Роющий таракан – это автор, роющий вглубь, видящий смыслы и т.д. Все насекомые – это один автор в разных функциях.
Монтажная композиция
Ни один из видов искусства не образовался из пустоты. Кино возникло из театра и литературы. Комбинирование «точек съемки», «нарезка» и «склейка» появились задолго до кинематографа в фольклоре.
Сказка про Костеньку, когда бабушка с дедушкой нашли косточку, качали- качали – выкачали ножки, качали-качали, выкачали ручки, качали-качали – выкачали головушку, качали-качали – выкачали туловище. Эта фрагментация телесности малыша – комбинирование элементов и «точек съемки». Нарезка и склейка. Это малышовое первое кино.
Задание 1. Прочитайте отрывок из статьи С.Эйзенштейна «Монтаж». У кого он учился искусству кинематографа? Расскажите, как начинающий автор стал бы описывать сцену казни, которая у Пушкина состоит из трех элементов.
«Возьмем "Полтаву» Пушкина. Остановимся на сцене казни Кочубея. В этой сцене тема "конца Кочубея" особенно остро выражена через образ "конца казни Кочубея". Сам же образ конца казни возникает и возрастает из сопоставления тех «документально" взятых изображений из трех деталей, которыми заканчивается казнь.
"Уж поздно, -- кто-то им сказал. И в поле перстом указал. Там роковой намост ломали, Молился в черных ризах поп, И на телегу подымали Два казака дубовый гроб".
Трудно найти более сильный подбор деталей, чтобы во всем ужасе дать ощущение образа смерти, чем это сделано в финале сцены казни».
Задание 2. Прочитайте отрывок из статьи С.Эйзенштейна и опишите события, которые не вошли в кадр. Почему восемь подков? Что было бы, если бы их было 4?
«Возьмем из "Полтавы" Пушкина другую сцену, где Пушкин магически заставляет возникнуть перед читателем образ ночного побега во всей его красочности и эмоциональности:
...Никто не знал, когда и как Она сокрылась. Лишь рыбак. Той ночью слышал конский топот, Казачью речь и женский шепот...
Три куска:
1. Конский топот.
2. Казачья речь.
3. Женский шепот.
Опять-таки три предметно выраженных (в звуке!) изображения слагаются в объединяющий их эмоционально переживаемый образ, в отличие от того, как воспринимались бы эти три явления, взятые вне всякой связи друг с другом.
Этот метод применяется исключительно с целью вызвать нужное эмоциональное переживание в читателе. Именно переживание, так как информация о том, что Мария исчезла, самим же автором дана строчкой выше ("...Она сокрылась. Лишь рыбак..."). Сообщив о том, что она сокрылась, автор хочет, чтобы это еще было пережито читателем. И для этого он сразу же переходит на монтаж: тремя деталями, взятыми из элементов побега, он заставляет монтажно возникнуть
образ ночного побегай через это в чувствах его пережить. К трем звуковым изображениям он присоединяет четвертое. Он как бы ставит точку. И для этого четвертое изображение он выбирает из другого измерения. Он дает его не звуковым, а зрительно-пластическим «крупным планом".
...И утром след осьмя подков /Был виден на росе лугов.
Так «монтажен" Пушкин, когда он создает образ произведения".
Задание 3. Прочитайте первую строфу «Полтавы» Пушкина. Докажите, что и там монтажная композиция. Разбейте на кадры. Подумайте, какие точки съемки удобны для изображения богатства Кочубея? Где в поэме "Полтава представлено подобное описание?
Богат и славен Кочубей.
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.
Кругом Полтавы хутора
Окружены его садами,
И много у него добра,
Мехов, атласа, серебра
И на виду и под замками.
Но Кочубей богат и горд
Не долгогривыми конями,
Не златом, данью крымских орд,
Не родовыми хуторами,
Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей.
Задание. 4. Прочитайте анализ строчек Маяковского, сделанный Эйзенштейном. Найдите в других стихах Маяковского монтаж, распишите их покадрово.
«Обычно начертание поэмы придерживается записи строф, разделенных по
метрическому членению -- по стихам. Но мы имеем в поэзии и мощного
представителя другого начертания -- Маяковского. В его "рубленой строке"
расчленения ведутся не по границам стиха, а по границам "кадров".
Маяковский делит не по стиху:
Пустота. Летите, В звезды врезываясь.
а делит по "кадрам":
Пустота...
Летите,
В звезды врезываясь.
При этом Маяковский разрубает строчку так, как это делал бы опытный
монтажер, выстраивающий типичную сцену столкновения ("звезд" и "Есенина").
Сперва -- один. Потом -- другой. Затем столкновение того и другого».
Задание 5. Прочитайте поэму Маяковского «Флейта-позвоночник». Докажите, что здесь монтажная композиция. Есть ли в ней элементы трэша, фантасмагории? Какой тип кино вам это напоминает?
Задание 6. Нарисуйте раскадровку стихотворения Маяковского «Лиличка». Какие кадры в этой любовной мизансцене невозможно снять без использования мультипликации?
Какие у вас ассоциации возникают, когда Маяковский дает образ быка в море? Он – Зевс, Лиличка – Европа?
Маяковский эпичен, полифоничен и диалогичен. Множественность голосов, точек зрения и версий реальности, ни одна из которых, включая авторскую, не является более истинной, чем другая; свобода, автономия, самоопределение и саморазвитие героя — все эти черты современности у Маяковского являются не темой и не сюжетом, а самой плотью художественной мысли, базовым, несущим элементом конструкции его лиро-эпоса.
Задание 7. Докажите, что в «Лиличке» центральный прием – диалогичность. В каких еще стихах Маяковского есть раскадровка?
Задание 8. Докажите, что Хлестаков - попаданец - современный режиссер попал в прошлое и в образе Хлестакова показывает рекламу Петербурга, комбинируя точки съемки и элементы.
Задание 9. Проверь себя. Нажми, чтобы проверить ответ:
Сказка про Костеньку, когда бабушка с дедушкой нашли косточку, качали- качали – выкачали ножки, качали-качали, выкачали ручки, качали-качали – выкачали головушку, качали-качали – выкачали туловище. Эта фрагментация телесности малыша – комбинирование элементов и «точек съемки». Нарезка и склейка. Это малышовое первое кино.
Задание 1. Прочитайте отрывок из статьи С.Эйзенштейна «Монтаж». У кого он учился искусству кинематографа? Расскажите, как начинающий автор стал бы описывать сцену казни, которая у Пушкина состоит из трех элементов.
«Возьмем "Полтаву» Пушкина. Остановимся на сцене казни Кочубея. В этой сцене тема "конца Кочубея" особенно остро выражена через образ "конца казни Кочубея". Сам же образ конца казни возникает и возрастает из сопоставления тех «документально" взятых изображений из трех деталей, которыми заканчивается казнь.
"Уж поздно, -- кто-то им сказал. И в поле перстом указал. Там роковой намост ломали, Молился в черных ризах поп, И на телегу подымали Два казака дубовый гроб".
Трудно найти более сильный подбор деталей, чтобы во всем ужасе дать ощущение образа смерти, чем это сделано в финале сцены казни».
Задание 2. Прочитайте отрывок из статьи С.Эйзенштейна и опишите события, которые не вошли в кадр. Почему восемь подков? Что было бы, если бы их было 4?
«Возьмем из "Полтавы" Пушкина другую сцену, где Пушкин магически заставляет возникнуть перед читателем образ ночного побега во всей его красочности и эмоциональности:
...Никто не знал, когда и как Она сокрылась. Лишь рыбак. Той ночью слышал конский топот, Казачью речь и женский шепот...
Три куска:
1. Конский топот.
2. Казачья речь.
3. Женский шепот.
Опять-таки три предметно выраженных (в звуке!) изображения слагаются в объединяющий их эмоционально переживаемый образ, в отличие от того, как воспринимались бы эти три явления, взятые вне всякой связи друг с другом.
Этот метод применяется исключительно с целью вызвать нужное эмоциональное переживание в читателе. Именно переживание, так как информация о том, что Мария исчезла, самим же автором дана строчкой выше ("...Она сокрылась. Лишь рыбак..."). Сообщив о том, что она сокрылась, автор хочет, чтобы это еще было пережито читателем. И для этого он сразу же переходит на монтаж: тремя деталями, взятыми из элементов побега, он заставляет монтажно возникнуть
образ ночного побегай через это в чувствах его пережить. К трем звуковым изображениям он присоединяет четвертое. Он как бы ставит точку. И для этого четвертое изображение он выбирает из другого измерения. Он дает его не звуковым, а зрительно-пластическим «крупным планом".
...И утром след осьмя подков /Был виден на росе лугов.
Так «монтажен" Пушкин, когда он создает образ произведения".
Задание 3. Прочитайте первую строфу «Полтавы» Пушкина. Докажите, что и там монтажная композиция. Разбейте на кадры. Подумайте, какие точки съемки удобны для изображения богатства Кочубея? Где в поэме "Полтава представлено подобное описание?
Богат и славен Кочубей.
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.
Кругом Полтавы хутора
Окружены его садами,
И много у него добра,
Мехов, атласа, серебра
И на виду и под замками.
Но Кочубей богат и горд
Не долгогривыми конями,
Не златом, данью крымских орд,
Не родовыми хуторами,
Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей.
Задание. 4. Прочитайте анализ строчек Маяковского, сделанный Эйзенштейном. Найдите в других стихах Маяковского монтаж, распишите их покадрово.
«Обычно начертание поэмы придерживается записи строф, разделенных по
метрическому членению -- по стихам. Но мы имеем в поэзии и мощного
представителя другого начертания -- Маяковского. В его "рубленой строке"
расчленения ведутся не по границам стиха, а по границам "кадров".
Маяковский делит не по стиху:
Пустота. Летите, В звезды врезываясь.
а делит по "кадрам":
Пустота...
Летите,
В звезды врезываясь.
При этом Маяковский разрубает строчку так, как это делал бы опытный
монтажер, выстраивающий типичную сцену столкновения ("звезд" и "Есенина").
Сперва -- один. Потом -- другой. Затем столкновение того и другого».
Задание 5. Прочитайте поэму Маяковского «Флейта-позвоночник». Докажите, что здесь монтажная композиция. Есть ли в ней элементы трэша, фантасмагории? Какой тип кино вам это напоминает?
Задание 6. Нарисуйте раскадровку стихотворения Маяковского «Лиличка». Какие кадры в этой любовной мизансцене невозможно снять без использования мультипликации?
Какие у вас ассоциации возникают, когда Маяковский дает образ быка в море? Он – Зевс, Лиличка – Европа?
Маяковский эпичен, полифоничен и диалогичен. Множественность голосов, точек зрения и версий реальности, ни одна из которых, включая авторскую, не является более истинной, чем другая; свобода, автономия, самоопределение и саморазвитие героя — все эти черты современности у Маяковского являются не темой и не сюжетом, а самой плотью художественной мысли, базовым, несущим элементом конструкции его лиро-эпоса.
Задание 7. Докажите, что в «Лиличке» центральный прием – диалогичность. В каких еще стихах Маяковского есть раскадровка?
Задание 8. Докажите, что Хлестаков - попаданец - современный режиссер попал в прошлое и в образе Хлестакова показывает рекламу Петербурга, комбинируя точки съемки и элементы.
Задание 9. Проверь себя. Нажми, чтобы проверить ответ:
Как бы вы назвали вид композиции стихотворения, где большая часть - экспозиция, где кульминация состоит из нескольких частей, где невозможна развязка, а эпилог философичен и автопсихологичен?
Шлем — надтреснутое блюдо,
Щит — картонный, панцирь жалкий…
В стременах висят, качаясь,
Ноги тощие, как палки.
Для него хромая кляча —
Конь могучий Росинанта,
Эти мельничные крылья —
Руки мощного гиганта.
Видит он в таверне грязной
Роскошь царского чертога.
Слышит в дудке свинопаса
Звук серебряного рога.
Санчо Панса едет рядом;
Гордый вид его серьезен:
Как прилично копьеносцу,
Он величествен и грозен.
В красной юбке, в пятнах дегтя,
Там, над кучами навоза, —
Эта царственная дама —
Дульцинея де Тобозо…
Большая часть стихотворения – своеобразная экспозиция, в которой представлены основные герои романа – Дон Кихот, Дульцинея, Санчо Панса. Обратимся к портрету Дон Кихота: Шлем – надтреснутое блюдо, Щит – картонный, панцирь жалкий... В стременах висят, качаясь, Ноги тощие, как палки.
Страстно, с юношеским жаром
Он в толпе крестьян голодных,
Вместо хлеба, рассыпает
Перлы мыслей благородных:
«Люди добрые, ликуйте,
Наступает праздник вечный:
Мир не солнцем озарится,
А любовью бесконечной…
Будут все равны; друг друга
Перестанут ненавидеть;
Ни алькады, ни бароны
Не посмеют вас обидеть.
Пойте, братья, гимн победный!
Этот меч несет свободу,
Справедливость и возмездье
Угнетенному народу!»
Из приходской школы дети
Выбегают, бросив книжки,
И хохочут, и кидают
Грязью в рыцаря мальчишки.
Аплодируя, как зритель,
Жирный лавочник смеется;
На крыльце своем трактирщик
Весь от хохота трясется.
И почтенный патер смотрит,
Изумлением объятый,
И громит безумье века
Он латинскою цитатой.
Из окна глядит цирюльник,
Он прервал свою работу,
И с восторгом машет бритвой,
И кричит он Дон Кихоту:
«Благороднейший из смертных,
Я желаю вам успеха!..»
И не в силах кончить фразы,
Задыхается от смеха.
Кульминация - многократное повторение в разных лицах насмешки.
Здесь нет, и не может быть развязки, есть только эпилог:
Он не чувствует, не видит
Ни насмешек, ни презренья!
Кроткий лик его так светел,
Очи — полны вдохновенья.
Он смешон, но сколько детской
Доброты в улыбке нежной,
И в лице, простом и бледном,
Сколько веры безмятежной!
И любовь и вера святы.
Этой верою согреты
Все великие безумцы,
Все пророки и поэты!
(По стихотворению Мережковского "Дон Кихот")
Щит — картонный, панцирь жалкий…
В стременах висят, качаясь,
Ноги тощие, как палки.
Для него хромая кляча —
Конь могучий Росинанта,
Эти мельничные крылья —
Руки мощного гиганта.
Видит он в таверне грязной
Роскошь царского чертога.
Слышит в дудке свинопаса
Звук серебряного рога.
Санчо Панса едет рядом;
Гордый вид его серьезен:
Как прилично копьеносцу,
Он величествен и грозен.
В красной юбке, в пятнах дегтя,
Там, над кучами навоза, —
Эта царственная дама —
Дульцинея де Тобозо…
Большая часть стихотворения – своеобразная экспозиция, в которой представлены основные герои романа – Дон Кихот, Дульцинея, Санчо Панса. Обратимся к портрету Дон Кихота: Шлем – надтреснутое блюдо, Щит – картонный, панцирь жалкий... В стременах висят, качаясь, Ноги тощие, как палки.
Страстно, с юношеским жаром
Он в толпе крестьян голодных,
Вместо хлеба, рассыпает
Перлы мыслей благородных:
«Люди добрые, ликуйте,
Наступает праздник вечный:
Мир не солнцем озарится,
А любовью бесконечной…
Будут все равны; друг друга
Перестанут ненавидеть;
Ни алькады, ни бароны
Не посмеют вас обидеть.
Пойте, братья, гимн победный!
Этот меч несет свободу,
Справедливость и возмездье
Угнетенному народу!»
Из приходской школы дети
Выбегают, бросив книжки,
И хохочут, и кидают
Грязью в рыцаря мальчишки.
Аплодируя, как зритель,
Жирный лавочник смеется;
На крыльце своем трактирщик
Весь от хохота трясется.
И почтенный патер смотрит,
Изумлением объятый,
И громит безумье века
Он латинскою цитатой.
Из окна глядит цирюльник,
Он прервал свою работу,
И с восторгом машет бритвой,
И кричит он Дон Кихоту:
«Благороднейший из смертных,
Я желаю вам успеха!..»
И не в силах кончить фразы,
Задыхается от смеха.
Кульминация - многократное повторение в разных лицах насмешки.
Здесь нет, и не может быть развязки, есть только эпилог:
Он не чувствует, не видит
Ни насмешек, ни презренья!
Кроткий лик его так светел,
Очи — полны вдохновенья.
Он смешон, но сколько детской
Доброты в улыбке нежной,
И в лице, простом и бледном,
Сколько веры безмятежной!
И любовь и вера святы.
Этой верою согреты
Все великие безумцы,
Все пророки и поэты!
(По стихотворению Мережковского "Дон Кихот")
Лента Мебиуса - композиционный прием стихотворения В.Друка.
По разным сторонам ленты пассажиры едут, не видя своего печального двойника. И в то же время это усложненная зеркальная композиция.
* * *
Едет поезд через реку,
Едет поезд по мосту
И попыхивает кверху
Гордо поднятой трубой.
Там, конечно, пассажиры
Все на лавочках сидят.
Там, конечно, пассажиры
Масло с курицей едят.
Там, конечно, пассажирам
К чаю сахар подают.
И конечно, пассажиры
Песни радостно поют.
Но такой же точно поезд
Отражается в воде.
И труба его большая
Почему-то смотрит вниз.
Там, наверно, пассажиры
Безбилетные сидят.
Там, наверно, пассажиры
Целый день в окно глядят.
Там, наверно, пассажирам
Чай вообще не подают.
И, конечно, пассажиры
Песни грустные поют.
На мосту остановился
Поезд — эх! — на пять минут.
Размышляют пассажиры:
ТАМ мы едем или ТУТ?
По разным сторонам ленты пассажиры едут, не видя своего печального двойника. И в то же время это усложненная зеркальная композиция.
* * *
Едет поезд через реку,
Едет поезд по мосту
И попыхивает кверху
Гордо поднятой трубой.
Там, конечно, пассажиры
Все на лавочках сидят.
Там, конечно, пассажиры
Масло с курицей едят.
Там, конечно, пассажирам
К чаю сахар подают.
И конечно, пассажиры
Песни радостно поют.
Но такой же точно поезд
Отражается в воде.
И труба его большая
Почему-то смотрит вниз.
Там, наверно, пассажиры
Безбилетные сидят.
Там, наверно, пассажиры
Целый день в окно глядят.
Там, наверно, пассажирам
Чай вообще не подают.
И, конечно, пассажиры
Песни грустные поют.
На мосту остановился
Поезд — эх! — на пять минут.
Размышляют пассажиры:
ТАМ мы едем или ТУТ?
Монтажная, зеркальная
рамка в рамке (рассказ в рассказе)
Зеркальная, линейная
фрагментарная
обратная
концентрическая
Бутылка Клейна, лента Мебиуса
фрагментарная
Пунктир
Авторское название жанра - роман-пунктир
(Два главных героя — Монахов, за жизнью которого наблюдает автор, и Ленинград — город, который в сою бытность нес на себе тяжкое полузабытье персонажей Достоевского и Гоголя).
Авторское название жанра - роман-пунктир
(Два главных героя — Монахов, за жизнью которого наблюдает автор, и Ленинград — город, который в сою бытность нес на себе тяжкое полузабытье персонажей Достоевского и Гоголя).
Зеркальная, отражение двух семей Базаровых и Кирсановых. Евгений как нигилит и как лекарь Город - усадьбы. Именья Кирсановых, Одинцовой и Базаровых - тройное отражение.
Концентрическая - три испытания.
Концентрическая - три испытания.
Кольцевая (рассказ дяди начинается тем же, чем и заканчивается), монтажная (сцена боя)
Фрагментарная. Три фрагмента соотвествуют трем частям.
монтажная