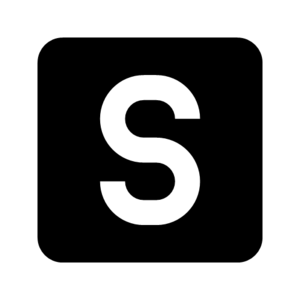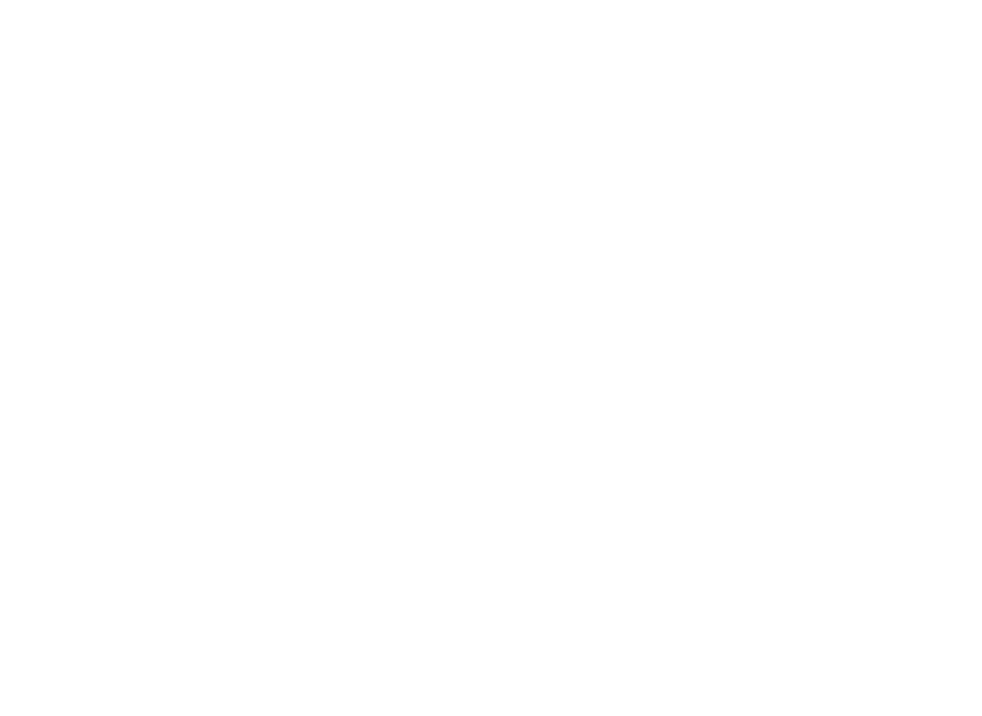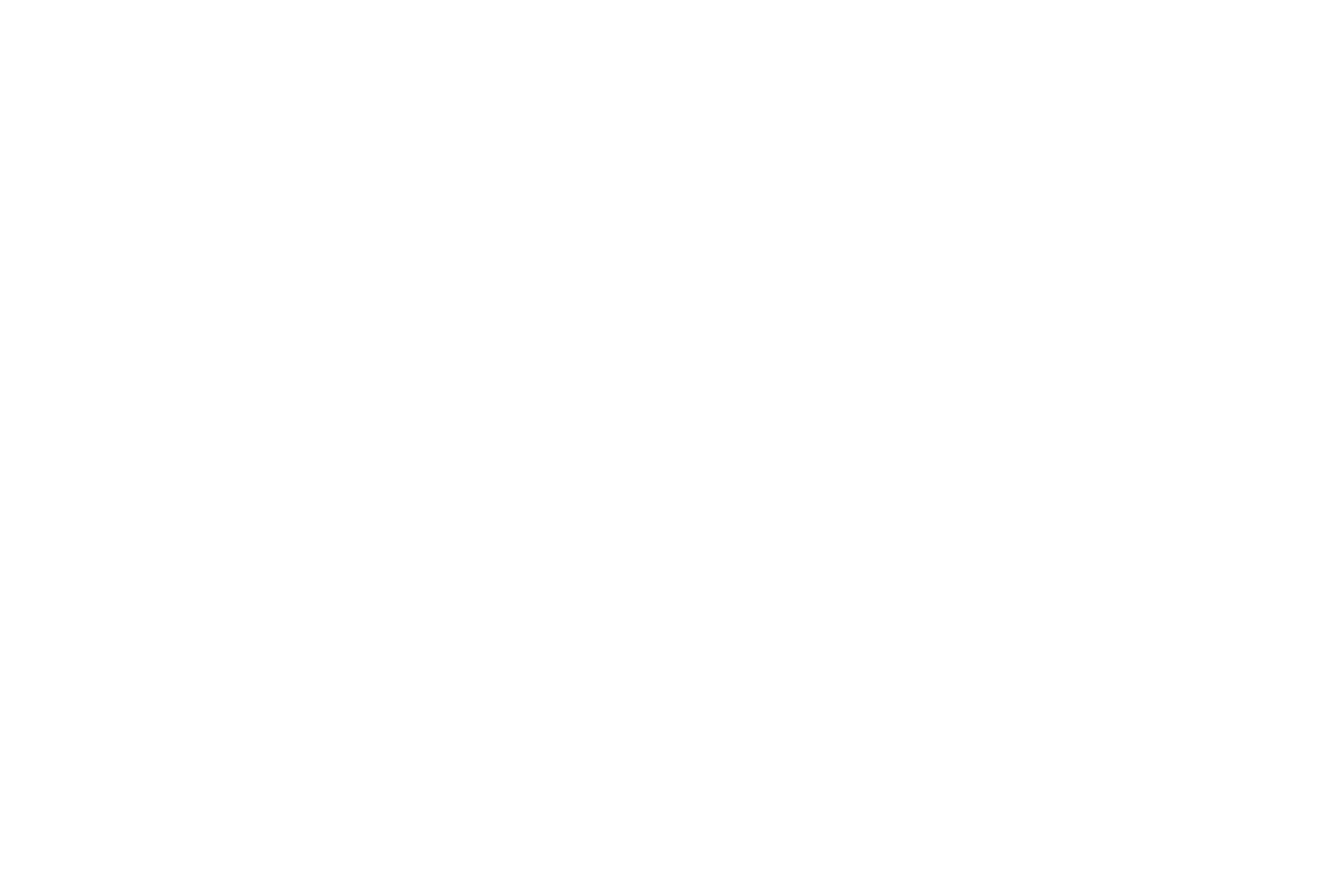Субъектная и объектная
Организация текста
Текст является ключевым элементом коммуникации, и его организация играет решающую роль в передаче информации. В лингвистике выделяют два основных типа организации текста: субъектную и объектную. Субъектная лирична, связана с точкой зрения автора, объектная - с точкой зрения объекта, на которого автор указывает читателю как на героя. Б. О. Корман, «субъект сознания тем ближе к автору, чем в большей степени он растворён в тексте и незаметен в нём. По мере того как субъект сознания становится объектом сознания, он отдаляется от автора, то есть чем в большей степени субъект сознания становится определённой личностью со своим особым складом речи, характером…, тем в меньшей степени он непосредственно выражает авторскую позицию». Повествователь ближе других субъектов сознания к автору как раз в силу того, что он не изображён, растворён в тексте, не заметен в нём. Рассказчик дальше от автора как раз в силу своей изображённости (это определённая личность, имеющая некоторые этапы биографии, свой «образ языка» и т.д.).
Субъектность базируется на принципиальной романтической традиции, выраженной Ф.Тютчевым "Молчи, скрывайся и таи". Объектность на "последнем слове", окончательном выражении в зрелом произведении мнения автора, где он сумел, по Достоевскому, "вопрос разрешить".
Также деление может быть более формальным и более разделяющим жанры литературы.
Субъектная организация текста предполагает, что текст организован вокруг субъекта, то есть автогероя или группы людей, которые являясь двойниками автогероя, являются главными звеньями в идеологии текста. В этом случае текст обычно начинается с представления субъекта и затем описывает его действия, мысли, чувства и т. д. Примером субъектной организации текста может служить автобиография, где автор рассказывает о своей жизни и своем опыте. Лирическое стихотворение, где автор выражает свои мысли и чувства.
Объектная организация текста, напротив, предполагает, что текст описывает объект, а не субъект. В этом случае текст начинается с описания объекта и затем переходит к описанию его свойств, функций, характеристик и т. д. Например, статья в научном журнале может описывать новый метод лечения или новый вид растения, при этом основное внимание уделяется описанию метода или растения, а не автору статьи.
Разделение субъектной и объектной организации текста важно для понимания структуры текста и его функций. Субъектная организация обычно используется для передачи личного опыта, эмоций и мыслей, тогда как объектная организация более объективна и информативна.
Субъектность базируется на принципиальной романтической традиции, выраженной Ф.Тютчевым "Молчи, скрывайся и таи". Объектность на "последнем слове", окончательном выражении в зрелом произведении мнения автора, где он сумел, по Достоевскому, "вопрос разрешить".
Также деление может быть более формальным и более разделяющим жанры литературы.
Субъектная организация текста предполагает, что текст организован вокруг субъекта, то есть автогероя или группы людей, которые являясь двойниками автогероя, являются главными звеньями в идеологии текста. В этом случае текст обычно начинается с представления субъекта и затем описывает его действия, мысли, чувства и т. д. Примером субъектной организации текста может служить автобиография, где автор рассказывает о своей жизни и своем опыте. Лирическое стихотворение, где автор выражает свои мысли и чувства.
Объектная организация текста, напротив, предполагает, что текст описывает объект, а не субъект. В этом случае текст начинается с описания объекта и затем переходит к описанию его свойств, функций, характеристик и т. д. Например, статья в научном журнале может описывать новый метод лечения или новый вид растения, при этом основное внимание уделяется описанию метода или растения, а не автору статьи.
Разделение субъектной и объектной организации текста важно для понимания структуры текста и его функций. Субъектная организация обычно используется для передачи личного опыта, эмоций и мыслей, тогда как объектная организация более объективна и информативна.
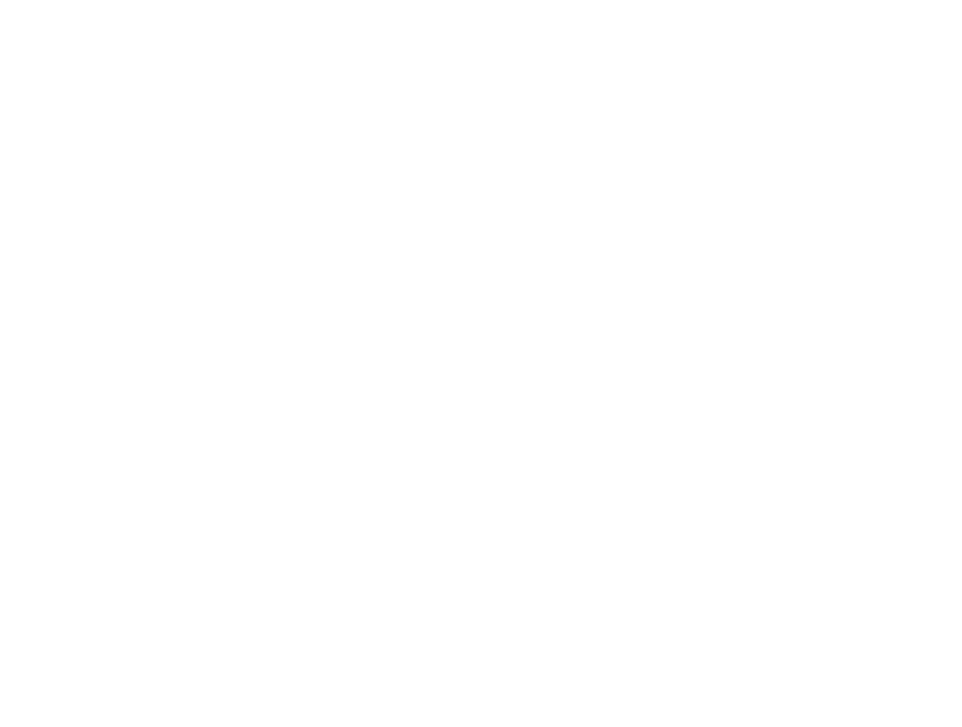
В философии
Итак:
"Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой — и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собой.
Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен как никогда и не воображал себе, и начнёшь великое дело, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймёшь дух свой и святую правду его".
Фёдор Достоевский. «Пушкин»
Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен как никогда и не воображал себе, и начнёшь великое дело, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймёшь дух свой и святую правду его".
Фёдор Достоевский. «Пушкин»
Субъектно-объектная организация стиха основана на жанровой природе, традиции и на подсознании
Лирический субъект (поэтическое «я») может быть не полностью осознан автором или читателем. Его характеристики часто воссоздаются косвенно: выбор деталей, эмоционально-оценочные слова, интонационно-синтаксические средства. В этом процессе подсознательные установки автора или воспринимающего субъекта могут влиять на интерпретацию отношений между субъектом и объектом в стихотворении
В песне Анны Герасимовой «Глухонемой» звукопись становится инструментом саморефлексии, ведь Герасимова (имя автора) и Герасим, который утопил свою, прежде всего, веру, перекликаются в многозначности. Осознанное противоречит бесознательному. Автор полагает, что его стих ироничен, однако в нем весьма существенна доля автотрагедии.
Лирический субъект, настраивая фонетическую организацию текста как каламбур, описывает своё состояние, воплощает его в самой материи речи.
Уже первая строка — «Глухонемой глухонемой» — задаёт ключевую субъектно‑объектную размытость. Повторение способно превратить формулу прилагательное+ существительное в заклинание: говорящий то называет другого («ты» — глухонемой), то невольно сливается с ним, проговаривая это как внутренний диагноз. Звукопись отразила раздвоение сознания: субъект одновременно и наблюдатель, и объект собственной речи, что указывает на экзистенциальную неуверенность в сомкнутых каламбуром границах «я».
В следующей строфе — «Поговорил бы ты со мной / Я позвала б тебя домой» — аллитерации на б, п, в создают эффект затруднённого произнесения. Мягкие согласные словно препятствуют свободному течению речи, имитируя немоту, заикание, усилие проговорить невыговариваемое – в рамках традиции отрывка, начатой у нас Жуковским. Синтаксическая параллель («поговорил… / позвала…») и модальные частицы «бы», «б» усиливают ощущение нереализованности желания: всё существует лишь в условном наклонении, в зоне возможного, но не осуществлённого, поскольку «молчи, скрывайся и таи» распространяются также и на каламбурированную немоту.
Параллельные конструкции («Поговорил бы ты со мной / Я позвала б тебя домой», «Посуду бедную не мой / Пошли б домой…») – продолжение игры с песней о водяном, варианты бессмысленности его одинокого существования.
Строка «Да дом‑то наглухо не мой» наращивает семантику отчуждения через звукопись: аллитерация на н, г, л, м формирует ощущение запертости, вязкой непроницаемости. Повтор «не мой» (далее подхваченный в «Посуду бедную не мой») превращается в ритуальное проговаривание потери: субъект осознаёт себя, многократное воспроизведение формулы непринадлежности — не дому, не себе, не другому.
Особенно показательна пара строк: «Белеют чайки за кормой / Белеет карма за кормой». Здесь звукопись работает как семантический мост к песне «Я водяной, я водяной», работает стихия воды, молчание отсутствующего собеседника воспринимается как карма: фонетическая близость «карма» / «кормой» при общем фоне к, р, м создаёт неочевидную связь между судьбой (кармой) и движением по воде (кормой). Повтор б, л в «белеют» / «белеет» делает оба образа — природный (чайки) и метафизический (карма) — фонетически родственными, словно судьба проявляется как след за судном, «белеет», становится зримой; шипяще‑свистящий шлейф (ч, ш) добавляет шелест, шёпот, будто смысл проступает не напрямую, а через звуковое подполье.
Строка «Глухонемой, не вой, не ной» концентрирует эмоциональный нерв-аллитерацию на н, й, в. Отрицание «не вой, не ной» звучит как попытка заглушить внутренний стон - сходный со стоном при виде грязной посуды, с которой, собственно, началась песня-автотрагедия: звукопись здесь не описывает боль, а воплощает её физиологию — сдержанный, невыплаканный крик, застрявший в горле.
Наконец, повтор «Глухонемой, глухонемой», замыкающий строфы, превращает текст в звуковой ритуал самоосознания: циклическое возвращение к точке невозврата — как если бы субъект пытался пробить стену молчания, но каждый раз натыкался на неё же. Звукопись становится формой саморефлексии: сознание проявляется как повторение, превращающее речь в обряд, чему способствуют аллитерации, имитирующие телесную затруднённость говорения, омофонические сдвиги (карма / кормой), позволяющие смыслу каламбура проступать сквозь звук вороньего карканья .
Звуковая организация текста (мягкие сонорные, шипящие, синтаксическая монотония) материализует ключевые мотивы: немоту, отчуждение, нереализованность, внутреннюю раздвоенность. Саморефлексия здесь - звуковое самонаблюдение, фонетика плотная, непроницаемая стена отчужденного смысла, речь — форма бытия сознания, того самого паруса, который проявляет себя в последней строчке «Белеет…». Карма – быть одиноким как парус. Как у Бродского в "Почти элегии" "куда" сразу отсылает к "Евгению Онегину", так и у Герасимовой "белеет". Одного слова бывает достаточно для обозначения объекта. Субъект же может отрицать чистую реминисценцию.
Лирический субъект, настраивая фонетическую организацию текста как каламбур, описывает своё состояние, воплощает его в самой материи речи.
Уже первая строка — «Глухонемой глухонемой» — задаёт ключевую субъектно‑объектную размытость. Повторение способно превратить формулу прилагательное+ существительное в заклинание: говорящий то называет другого («ты» — глухонемой), то невольно сливается с ним, проговаривая это как внутренний диагноз. Звукопись отразила раздвоение сознания: субъект одновременно и наблюдатель, и объект собственной речи, что указывает на экзистенциальную неуверенность в сомкнутых каламбуром границах «я».
В следующей строфе — «Поговорил бы ты со мной / Я позвала б тебя домой» — аллитерации на б, п, в создают эффект затруднённого произнесения. Мягкие согласные словно препятствуют свободному течению речи, имитируя немоту, заикание, усилие проговорить невыговариваемое – в рамках традиции отрывка, начатой у нас Жуковским. Синтаксическая параллель («поговорил… / позвала…») и модальные частицы «бы», «б» усиливают ощущение нереализованности желания: всё существует лишь в условном наклонении, в зоне возможного, но не осуществлённого, поскольку «молчи, скрывайся и таи» распространяются также и на каламбурированную немоту.
Параллельные конструкции («Поговорил бы ты со мной / Я позвала б тебя домой», «Посуду бедную не мой / Пошли б домой…») – продолжение игры с песней о водяном, варианты бессмысленности его одинокого существования.
Строка «Да дом‑то наглухо не мой» наращивает семантику отчуждения через звукопись: аллитерация на н, г, л, м формирует ощущение запертости, вязкой непроницаемости. Повтор «не мой» (далее подхваченный в «Посуду бедную не мой») превращается в ритуальное проговаривание потери: субъект осознаёт себя, многократное воспроизведение формулы непринадлежности — не дому, не себе, не другому.
Особенно показательна пара строк: «Белеют чайки за кормой / Белеет карма за кормой». Здесь звукопись работает как семантический мост к песне «Я водяной, я водяной», работает стихия воды, молчание отсутствующего собеседника воспринимается как карма: фонетическая близость «карма» / «кормой» при общем фоне к, р, м создаёт неочевидную связь между судьбой (кармой) и движением по воде (кормой). Повтор б, л в «белеют» / «белеет» делает оба образа — природный (чайки) и метафизический (карма) — фонетически родственными, словно судьба проявляется как след за судном, «белеет», становится зримой; шипяще‑свистящий шлейф (ч, ш) добавляет шелест, шёпот, будто смысл проступает не напрямую, а через звуковое подполье.
Строка «Глухонемой, не вой, не ной» концентрирует эмоциональный нерв-аллитерацию на н, й, в. Отрицание «не вой, не ной» звучит как попытка заглушить внутренний стон - сходный со стоном при виде грязной посуды, с которой, собственно, началась песня-автотрагедия: звукопись здесь не описывает боль, а воплощает её физиологию — сдержанный, невыплаканный крик, застрявший в горле.
Наконец, повтор «Глухонемой, глухонемой», замыкающий строфы, превращает текст в звуковой ритуал самоосознания: циклическое возвращение к точке невозврата — как если бы субъект пытался пробить стену молчания, но каждый раз натыкался на неё же. Звукопись становится формой саморефлексии: сознание проявляется как повторение, превращающее речь в обряд, чему способствуют аллитерации, имитирующие телесную затруднённость говорения, омофонические сдвиги (карма / кормой), позволяющие смыслу каламбура проступать сквозь звук вороньего карканья .
Звуковая организация текста (мягкие сонорные, шипящие, синтаксическая монотония) материализует ключевые мотивы: немоту, отчуждение, нереализованность, внутреннюю раздвоенность. Саморефлексия здесь - звуковое самонаблюдение, фонетика плотная, непроницаемая стена отчужденного смысла, речь — форма бытия сознания, того самого паруса, который проявляет себя в последней строчке «Белеет…». Карма – быть одиноким как парус. Как у Бродского в "Почти элегии" "куда" сразу отсылает к "Евгению Онегину", так и у Герасимовой "белеет". Одного слова бывает достаточно для обозначения объекта. Субъект же может отрицать чистую реминисценцию.
Наблюдатель как особая субъектная позиция в прозе Сергея Чайкина: между «точкой видения» и метатекстом
- Фук, а ты куда собрался? И нарядный такой!
- Людей с нашим общим праздником поздравлять.
- С каким же?
- Слушай, ну ты автор, ты и придумывай.
- Я не автор - я наблюдатель.
- Ах, наблюдатель! Ну, тогда скажи, наблюдатель, когда ты не смотришь за мной, чем я занимаюсь? А? Или меня просто нет? Наблюдатель он, как же!
«Фук-Фук, Слонёнок и Дождик»
В прозе Сергея Чайкина появляется нестандартная субъектная инстанция — наблюдатель, которая принципиально отличается от традиционных форм повествования (автор, автор‑повествователь, лирический субъект, лирический герой). Её специфика раскрывается через диалог, где я-персонаж прямо заявляет: «Я не автор — я наблюдатель». Эта самоидентификация задаёт особый режим восприятия текста: наблюдатель не творит мир, а фиксирует его, но при этом осознаёт собственную роль в нарративе. Категория «наблюдатель», введённая автором как конструктивный принцип , близка к понятию «точка видения» (point of view), но не тождественна ему: это особый модус субъектной организации, где наблюдатель одновременно и фиксирует действие, и рефлексирует о собственной роли в тексте.
Ключевое свойство наблюдателя — ограниченность перцептивного поля. Наблюдатель по определению вообще не должен видеть ничего, где не присутствует. Это жёстко задаёт границы его знания: он может сообщать лишь о том, что непосредственно наблюдает, и не обладает всеведением даже в пределах собственного текста. В отличие от всеведущего автора‑повествователя, наблюдатель лишён доступа к внутренним монологам, прошлым событиям или параллельным сюжетным линиям — его взгляд всегда здесь и сейчас. Такая ограниченность сближает его с классической «точкой видения» (point of view), там перспектива тоже избирательна и субъективна.
- Ау! Ау! – кричал Ёжик.
- Все не могли потеряться, - растерянно сказал Заяц.
- Могли, - с грустью ответил Мишка.
- Ау! Ау! ...
Ветер с дождём быстро превращали вечер в ночь. Троица стояла, прижавшись спинами друг к другу, вглядываясь в серые тени сумрака.
«Нужно идти искать сегодня, завтра может быть поздно!» - одновременно подумали все.
- Нам лучше разделиться! И разбиться по парам, так будет быстрей и спокойней, – предложил Дождик. - Вы идите вдвоем, а я от страха пару сразу найду.
- Нет! Нельзя! Ведь они, наверно, тоже нас ищут. Мы должны быть вместе, когда… стоп! - переходя на шепот, сказал Фук. - Кто-то читает, а может, и пишет. Видите - ветер и дождь стихают.
- И я вижу! Вижу! Вон Звёздочки появляются на небе! - радостно закричал Слонёнок. – Это ОНИ! Нашлись!
- Ура!!!
- Мы здесь!
- МЫ ВАС ВИДИМ!
Этот ход радикально смещает границы субъектности: наблюдатель, который изначально позиционировал себя как пассивного фиксатора, оказывается вовлечён в процесс конструирования текста наравне с героями. Возникает парадокс: наблюдатель одновременно и видит, и ищется; его функция перестаёт быть чисто перцептивной, превращаясь в элемент сюжета. Ключевой момент — шепот Фука: «Кто‑то читает, а может, и пишет. Видите — ветер и дождь стихают». Здесь происходит сдвиг от сюжетного уровня к метатекстовому: герой догадывается, что их мир — текст, а их действия подвержены внешнему управлению. Стихание ветра и дождя интерпретируется как знак вмешательства «автора» или «читателя»: природа реагирует на нарративную необходимость. Акт прозрения — персонаж осознаёт условность реальности, в которой он существует. Такой ход типичен для постмодернистской поэтики: герой становится со‑творцом текста, пытаясь «прочитать» правила игры, в которую он вовлечён, при этом ощущение присутствие в его психологии «текстомистицизма», вероятно, он верит также в связь звезд и судеб, как верили древние люди, что служило в главе «Фаталист» у Лермонтова объектом зависти к мировоззрению древних.
- Я придумал самый лёгкий и простой кроссворд! - прошептал Фук, глядя в закрытые глаза Дождика. - Тьфу-ты, его теперь только весенняя капель разбудит.
- Я придумал самый лёгкий и простой кроссворд! - чуть громче сказал Ёж, теперь уже обращаясь к Зайцу. Он протянул ему кусочек берёзовой коры, на котором было написано «ЛЕСНОЙ ЖЫВОТНАЯ» и начерчена одна клетка.
- Нет такого животного! - немного подумав, ответил Слонёнок.
- А ты думай, думай.
- М-м-м, всё равно нет.
- Есть!
- Может, в Африке и есть? А у нас нет, и не было никогда!
- В Африке не знаю, не был. Но у нас есть, и ты его знаешь!
- Я никого такого одноклеточного не знаю, - Заяц от злости хлопнул ушами.
- Сегодня его видел, - сказал Фук и, как бы передразнивая, попытался хлопнуть в ладоши над головой, но только укололся. - Ну ладно, с логикой у тебя всегда было слабовато. Дай-ка сюда! - он взял кроссворд, и что-то быстро нацарапав, отдал.
Слон прищурился и удивленно вымолвил: – _?
- Нет, я! Это универсальный ответ, если ты, конечно, «ЛЕСНОЙ ЖЫВОТНАЯ», - почесывая наколотые места, проговорил Ёж.
- Псих! - подумал косой, - но в логике не откажешь! И писать поучился бы - «лесной» с маленькой буквы пишется…
Автору предстояло создать пространство для интерпретации – одна клетка, ответ лишь одному очевиден, от прочих требует «переключения оптики» читателя на конкретного персонажа – затем на себя, ведь если будет вписана буква «я», ЛЕСНОЙ ЖЫВОТНАЯ – и читатель тоже. Кроссворд - тест на способность мыслить нестандартно — и на готовность признать себя частью «неправильного» мира. Дестабилизация привычной логики.
Отрывок раскрывает два уровня самоидентификации: первый, назовем его персонажный, характеризуется тем, что герои определяют себя через отношение к языковой игре — кто‑то отвергает её (Слонёнок), кто‑то принимает с оговорками (Заяц), а кто‑то создаёт (Фук, Ёж). Автор при этом – создатель лингвистического анекдота, наблюдатель и первый читатель, он же - ЛЕСНОЙ ЖЫВОТНАЯ. Второй метатекстовый: пустая клеточка позволяет персонажам и читателю ощутить себя со‑творцами текста.
Вписывая букву «я», автор включает себя в созданную реальность: он тоже часть этого «неправильного» мира. Это акт самоиронии и саморазоблачения: писатель признаёт, что и он подчиняется правилам игры, которую придумал.
- Фук, а ты куда собрался? И нарядный такой!
- Людей с нашим общим праздником поздравлять.
- С каким же?
- Слушай, ну ты автор, ты и придумывай.
- Я не автор - я наблюдатель.
- Ах, наблюдатель! Ну, тогда скажи, наблюдатель, когда ты не смотришь за мной, чем я занимаюсь? А? Или меня просто нет? Наблюдатель он, как же!
«Фук-Фук, Слонёнок и Дождик»
В прозе Сергея Чайкина появляется нестандартная субъектная инстанция — наблюдатель, которая принципиально отличается от традиционных форм повествования (автор, автор‑повествователь, лирический субъект, лирический герой). Её специфика раскрывается через диалог, где я-персонаж прямо заявляет: «Я не автор — я наблюдатель». Эта самоидентификация задаёт особый режим восприятия текста: наблюдатель не творит мир, а фиксирует его, но при этом осознаёт собственную роль в нарративе. Категория «наблюдатель», введённая автором как конструктивный принцип , близка к понятию «точка видения» (point of view), но не тождественна ему: это особый модус субъектной организации, где наблюдатель одновременно и фиксирует действие, и рефлексирует о собственной роли в тексте.
Ключевое свойство наблюдателя — ограниченность перцептивного поля. Наблюдатель по определению вообще не должен видеть ничего, где не присутствует. Это жёстко задаёт границы его знания: он может сообщать лишь о том, что непосредственно наблюдает, и не обладает всеведением даже в пределах собственного текста. В отличие от всеведущего автора‑повествователя, наблюдатель лишён доступа к внутренним монологам, прошлым событиям или параллельным сюжетным линиям — его взгляд всегда здесь и сейчас. Такая ограниченность сближает его с классической «точкой видения» (point of view), там перспектива тоже избирательна и субъективна.
- Ау! Ау! – кричал Ёжик.
- Все не могли потеряться, - растерянно сказал Заяц.
- Могли, - с грустью ответил Мишка.
- Ау! Ау! ...
Ветер с дождём быстро превращали вечер в ночь. Троица стояла, прижавшись спинами друг к другу, вглядываясь в серые тени сумрака.
«Нужно идти искать сегодня, завтра может быть поздно!» - одновременно подумали все.
- Нам лучше разделиться! И разбиться по парам, так будет быстрей и спокойней, – предложил Дождик. - Вы идите вдвоем, а я от страха пару сразу найду.
- Нет! Нельзя! Ведь они, наверно, тоже нас ищут. Мы должны быть вместе, когда… стоп! - переходя на шепот, сказал Фук. - Кто-то читает, а может, и пишет. Видите - ветер и дождь стихают.
- И я вижу! Вижу! Вон Звёздочки появляются на небе! - радостно закричал Слонёнок. – Это ОНИ! Нашлись!
- Ура!!!
- Мы здесь!
- МЫ ВАС ВИДИМ!
Этот ход радикально смещает границы субъектности: наблюдатель, который изначально позиционировал себя как пассивного фиксатора, оказывается вовлечён в процесс конструирования текста наравне с героями. Возникает парадокс: наблюдатель одновременно и видит, и ищется; его функция перестаёт быть чисто перцептивной, превращаясь в элемент сюжета. Ключевой момент — шепот Фука: «Кто‑то читает, а может, и пишет. Видите — ветер и дождь стихают». Здесь происходит сдвиг от сюжетного уровня к метатекстовому: герой догадывается, что их мир — текст, а их действия подвержены внешнему управлению. Стихание ветра и дождя интерпретируется как знак вмешательства «автора» или «читателя»: природа реагирует на нарративную необходимость. Акт прозрения — персонаж осознаёт условность реальности, в которой он существует. Такой ход типичен для постмодернистской поэтики: герой становится со‑творцом текста, пытаясь «прочитать» правила игры, в которую он вовлечён, при этом ощущение присутствие в его психологии «текстомистицизма», вероятно, он верит также в связь звезд и судеб, как верили древние люди, что служило в главе «Фаталист» у Лермонтова объектом зависти к мировоззрению древних.
- Я придумал самый лёгкий и простой кроссворд! - прошептал Фук, глядя в закрытые глаза Дождика. - Тьфу-ты, его теперь только весенняя капель разбудит.
- Я придумал самый лёгкий и простой кроссворд! - чуть громче сказал Ёж, теперь уже обращаясь к Зайцу. Он протянул ему кусочек берёзовой коры, на котором было написано «ЛЕСНОЙ ЖЫВОТНАЯ» и начерчена одна клетка.
- Нет такого животного! - немного подумав, ответил Слонёнок.
- А ты думай, думай.
- М-м-м, всё равно нет.
- Есть!
- Может, в Африке и есть? А у нас нет, и не было никогда!
- В Африке не знаю, не был. Но у нас есть, и ты его знаешь!
- Я никого такого одноклеточного не знаю, - Заяц от злости хлопнул ушами.
- Сегодня его видел, - сказал Фук и, как бы передразнивая, попытался хлопнуть в ладоши над головой, но только укололся. - Ну ладно, с логикой у тебя всегда было слабовато. Дай-ка сюда! - он взял кроссворд, и что-то быстро нацарапав, отдал.
Слон прищурился и удивленно вымолвил: – _?
- Нет, я! Это универсальный ответ, если ты, конечно, «ЛЕСНОЙ ЖЫВОТНАЯ», - почесывая наколотые места, проговорил Ёж.
- Псих! - подумал косой, - но в логике не откажешь! И писать поучился бы - «лесной» с маленькой буквы пишется…
Автору предстояло создать пространство для интерпретации – одна клетка, ответ лишь одному очевиден, от прочих требует «переключения оптики» читателя на конкретного персонажа – затем на себя, ведь если будет вписана буква «я», ЛЕСНОЙ ЖЫВОТНАЯ – и читатель тоже. Кроссворд - тест на способность мыслить нестандартно — и на готовность признать себя частью «неправильного» мира. Дестабилизация привычной логики.
Отрывок раскрывает два уровня самоидентификации: первый, назовем его персонажный, характеризуется тем, что герои определяют себя через отношение к языковой игре — кто‑то отвергает её (Слонёнок), кто‑то принимает с оговорками (Заяц), а кто‑то создаёт (Фук, Ёж). Автор при этом – создатель лингвистического анекдота, наблюдатель и первый читатель, он же - ЛЕСНОЙ ЖЫВОТНАЯ. Второй метатекстовый: пустая клеточка позволяет персонажам и читателю ощутить себя со‑творцами текста.
Вписывая букву «я», автор включает себя в созданную реальность: он тоже часть этого «неправильного» мира. Это акт самоиронии и саморазоблачения: писатель признаёт, что и он подчиняется правилам игры, которую придумал.