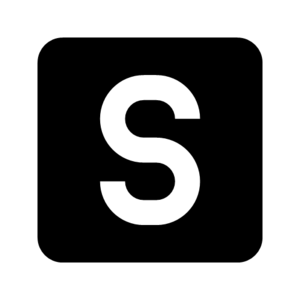Городской пейзаж
Рождество и путь И.Бродского по Москве
Пейза́ж (фр. Paysage, от pays — страна, местность) — жанр изобразительного искусства (а также отдельные произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени преображённая человеком природа.
От слова «пейзаж» произошло название жанра лирики – пейзажная. Поэты, используя разные изобразительные средства языка, описывают природу, деревню, город.
Любая прогулка поэта по городу может обернуться маленьким шедевром- городским пейзажем.
От слова «пейзаж» произошло название жанра лирики – пейзажная. Поэты, используя разные изобразительные средства языка, описывают природу, деревню, город.
Любая прогулка поэта по городу может обернуться маленьким шедевром- городским пейзажем.
Рождественский романс
Евгению Рейну, с любовьюПлывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.
Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный ход сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.
Плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.
Плывет во мгле замоскворецкой,
пловец в несчастие случайный,
блуждает выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый год, под воскресенье,
плывет красотка записная,
своей тоски не объясняя.
Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних
и пахнет сладкою халвою;
ночной пирог несет сочельник
над головою.
Твой Новый год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.
И.Бродский
Путь Бродского в стихотворении "Рождественский романс".
Бродский показывает путь от Александровского сада до Ленинградского вокзала зимой в сочельник. В Александровском саду лирический герой увидел кораблик негасимый - для него это рождественская звезда, но она у ног прохожих - вечный огонь, возможно, предвидение. "На розу желтую похожий" - вполне соответствует. Кирпичный надсад - кремлевская стена, у которой нынче горит вечный огонь, - является отправной точкой маршрута. Конечной - поезд, где "снежинки на вагоне", вероятно, "Красной стрелы".
Рождества нет, празднование его в советское время не одобряется, а все равно для Бродского оно есть - но во всем городском пейзаже его символы. «Плывёт в тоске необъяснимой» - с этих строк начинается описание современного города. Бродский рисует печальную, меланхоличную картину — «печальный хор сомнамбул, пьяниц», бредущий по Москве — при прочтении этих строк так и слышится пьяное пение, наполняющее улицы города; «В ночной столице фотоснимок/печально сделал иностранец» - даже заграничный гость в Москве становится печальным и грустным, возможно, он, к удивлению своему, на месте Храма Христа Спасителя увидел бассейн. "Новую" Москву лирический герой видит несуразной, построенной поверх старой: «И мертвецы стоят в обнимку/с особняками» - в этих строках видны образы призраков прошлого, которые остаются в новой Москве вместе с неразрушенными старыми зданиями.
Итак, его путь на Ордынку проходит через Храм Христа Спасителя, где снимок "печально сделал иностранец", снимать, собственно, нечего - там бассейн. Отсюда идет волна "средь моря городского". Там рядом находится кондитерская фабрика "Красный октябрь", откуда пахло "сладкою халвою". Пути такси "с больными седоками" и лирического героя через Москву-реку расходятся. Он идет по "мосту влюбленных", по которому не ездят автомобили, это пешеходный мост, здесь появляются образы любовника и красотки записной. Пройдя по этому мосту, он попадает в Замоскворечье, где "гуляет выговор еврейский". Оттуда идет к станции метро "Октябрьская". Затем спускается в метро и отправляется на Ленинградский вокзал.
Название стихотворения говорит о том, что автор предпочитает старый праздник. Это подтверждают и последние строки произведения, в которых прослеживаются отсылки именно на рождество: «как будто жизнь начнется снова,/как будто будет свет и слава,/удачный день и вдоволь хлеба,/как будто жизнь качнется вправо,/качнувшись влево» - «свет и слава» - рождение Христа, которое отмечается всеми христианами. Этот праздник ассоциируется у Бродского с теплом и светом, удачей и хлебом, в то время как Новый год он описывает так: «под Новый год, под воскресенье,/плывет красотка записная,/своей тоски не объясняя», «Твой Новый год по темно-синей/волне средь моря городского/плывет в тоске необъяснимой» - даже новый праздник вызывает в лирическом герое грусть, ассоциируется с одиночеством, словно лишь он один чувствует эту необъяснимую тоску.
Предшественники - Пушкин (путь Татьяны Лариной по Москве) и Маяковский "Две Москвы" (автобусная прогулка поэта). Последователь: В.Ерофеев "Москва-Петушки".
Бродский показывает путь от Александровского сада до Ленинградского вокзала зимой в сочельник. В Александровском саду лирический герой увидел кораблик негасимый - для него это рождественская звезда, но она у ног прохожих - вечный огонь, возможно, предвидение. "На розу желтую похожий" - вполне соответствует. Кирпичный надсад - кремлевская стена, у которой нынче горит вечный огонь, - является отправной точкой маршрута. Конечной - поезд, где "снежинки на вагоне", вероятно, "Красной стрелы".
Рождества нет, празднование его в советское время не одобряется, а все равно для Бродского оно есть - но во всем городском пейзаже его символы. «Плывёт в тоске необъяснимой» - с этих строк начинается описание современного города. Бродский рисует печальную, меланхоличную картину — «печальный хор сомнамбул, пьяниц», бредущий по Москве — при прочтении этих строк так и слышится пьяное пение, наполняющее улицы города; «В ночной столице фотоснимок/печально сделал иностранец» - даже заграничный гость в Москве становится печальным и грустным, возможно, он, к удивлению своему, на месте Храма Христа Спасителя увидел бассейн. "Новую" Москву лирический герой видит несуразной, построенной поверх старой: «И мертвецы стоят в обнимку/с особняками» - в этих строках видны образы призраков прошлого, которые остаются в новой Москве вместе с неразрушенными старыми зданиями.
Итак, его путь на Ордынку проходит через Храм Христа Спасителя, где снимок "печально сделал иностранец", снимать, собственно, нечего - там бассейн. Отсюда идет волна "средь моря городского". Там рядом находится кондитерская фабрика "Красный октябрь", откуда пахло "сладкою халвою". Пути такси "с больными седоками" и лирического героя через Москву-реку расходятся. Он идет по "мосту влюбленных", по которому не ездят автомобили, это пешеходный мост, здесь появляются образы любовника и красотки записной. Пройдя по этому мосту, он попадает в Замоскворечье, где "гуляет выговор еврейский". Оттуда идет к станции метро "Октябрьская". Затем спускается в метро и отправляется на Ленинградский вокзал.
Название стихотворения говорит о том, что автор предпочитает старый праздник. Это подтверждают и последние строки произведения, в которых прослеживаются отсылки именно на рождество: «как будто жизнь начнется снова,/как будто будет свет и слава,/удачный день и вдоволь хлеба,/как будто жизнь качнется вправо,/качнувшись влево» - «свет и слава» - рождение Христа, которое отмечается всеми христианами. Этот праздник ассоциируется у Бродского с теплом и светом, удачей и хлебом, в то время как Новый год он описывает так: «под Новый год, под воскресенье,/плывет красотка записная,/своей тоски не объясняя», «Твой Новый год по темно-синей/волне средь моря городского/плывет в тоске необъяснимой» - даже новый праздник вызывает в лирическом герое грусть, ассоциируется с одиночеством, словно лишь он один чувствует эту необъяснимую тоску.
Предшественники - Пушкин (путь Татьяны Лариной по Москве) и Маяковский "Две Москвы" (автобусная прогулка поэта). Последователь: В.Ерофеев "Москва-Петушки".
Религиозные мотивы и скрытые страхи в "Женитьбе" Гоголя
1. «Мимо храма не проходи»: формальная религиозность vs духовная пустота
2. «Рабочие перестраивают церковь»: страх святотатства или бунта?
1. «Мимо храма не проходи»: формальная религиозность vs духовная пустота
- Православная традиция предписывает заходить в церковь для молитвы, но Подколесин говорит скупо, словно выполняет это как ритуал без внутреннего содержания:
- «В Вознесенской, а неделю назад тому был в Казанском соборе. Впрочем, молиться всё равно, в какой бы то ни было церкви».
- Его посещение храмов напоминает отметку в бюрократическом отчёте — герой демонстрирует «правильность», но не веру. Даже упоминание Казанского собора (главного храма империи) лишено благоговения.
- Агафья Тихоновна:
- Вопрос о церкви для неё — социальный тест на благонадёжность жениха, а не интерес к духовности.
- Её последующее молчание и переход к теме Екатерингофа («гулянье») раскрывают подмену ценностей: вера уступает место развлечениям, она поддерживает разговор, начавшийся с катаний на лодочках.
- Соблюдение постов — формальное следование обрядам без духовного наполнения. Его религиозность поверхностна: он ходит в церкви, но не слышит Евангелия, как не слышит Агафью Тихоновну.
- Страх перед Екатерингофом — не столько боязнь греха, сколько экзистенциальный ужас перед жизнью. Для него гулянье — символ:
- Социального обязательства (как и брак);
- Утраты контроля (как в эпизоде с выпрыгиванием из окна).
- Петровские гулянья имитировали европейскую светскость, но в реальности стали ритуалом подчинения государству. Подколесин, упоминая Екатерингоф, бессознательно воспроизводит эту логику:
- Выбирает между «украшением» церквей (Казанский собор) и «украшением» жизни (гулянье);
- И то, и другое для него — внешние атрибуты, лишённые смысла.
- Молчание после реплики о гулянье — ключевой момент. Оно обнажает:
- Крах коммуникации: герои говорят на разных языках (религия vs развлечения);
- Всеобщую фальшь: даже пост и молитва стали частью карнавала масок.
- Если предположить, что Подколесин соблюдает пост, но «пропускает мясоед» (период, когда мясо разрешено), это отражает его экзистенциальный парадокс:
- Он механически следует правилам, но боится «вкусить» саму жизнь (женитьба, гулянье, даже грех).
- Его аскеза — не подвиг веры, а бегство от выбора.
- Петровскими реформами, превратившими веру в бюрократию;
- Лицемерной набожностью, где пост становится оправданием бездействия.
2. «Рабочие перестраивают церковь»: страх святотатства или бунта?
- Ремонт храма в тексте не упоминается, но если трактовать реплику Подколесина о не боящихся штукатурить высотный дом метафорически:
- Перестройка церкви — символ разрушения традиционного уклада. В 1840-е годы (время написания пьесы) шли споры о церковных реформах, что могло тревожить консерваторов.
- Подколесин, как мелкий чиновник, боится любых перемен: даже ремонт храма для него — угроза стабильности. Это отражает общий страх «маленького человека» перед ломкой привычного мира.
- «Как они не боятся?» — вопрос не о рабочих, а о собственной трусости:
- Герой проецирует свои страхи (женитьба, ответственность) на внешние объекты. Перестройка церкви становится метафорой вмешательства в его «храм» холостяцкой жизни.
- Окно как символ побега:
- В финале Подколесин выпрыгивает из окна, что можно трактовать как акт символической кастрации — отказ от «мужской» роли жениха.
- Это контрастирует с куполами церквей (фаллическими символами власти), которые он посещает, но не уважает.
- Страх обидеть Агафью Тихоновну:
- Нерешительность героя — не столько деликатность, сколько боязнь утраты контроля. Его фраза «в той только украшение лучше» о церкви параллельна оценке невесты: он ищет внешнюю «отделку» (приданое, статус), а не суть.
- Упоминание гулянья завершает диалог неслучайно:
- Екатерингоф — место ложной свободы, где чиновники и купцы имитируют веселье. Для Подколесина это «гулянье» становится альтернативой браку — таким же бессмысленным, но социально одобренным действием.
- Молчание и барабанный стук пальцами — метроном пустоты, отсчитывающий время до финального побега.
- Подколесин ходит в церкви, как в контору — для галочки, рассеян. пропускает мясоед - постоянно постится.
- Агафья Тихоновна использует вопросы о храмах для светской беседы.
- Екатерингофское гулянье становится пародией на духовное единение— здесь «гуляют» в рамках ритуала, для верующего екатерингофское гуляние, устроенное Петром Первым - пляски антихриста, он собрал священный собор.