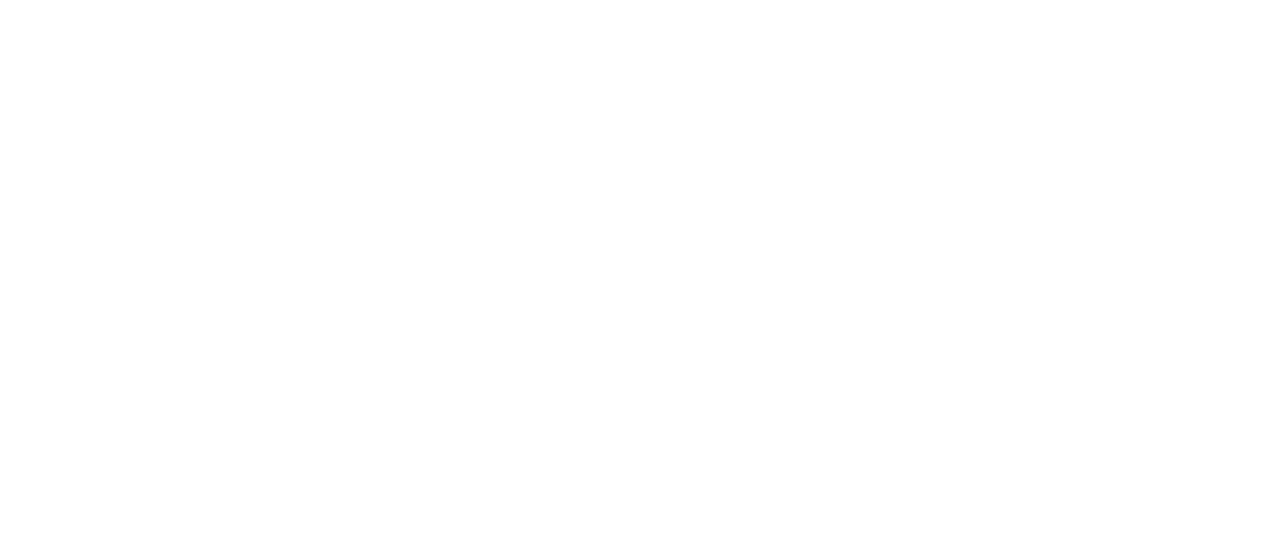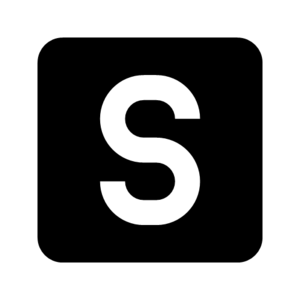Антиутопии
Антиутопия- это роман, в котором за черным юмором скрывается правда, а за будущим - настоящее.
Евгений Замятин в романе «Мы» опирается на опыт Михаила Лермонтова и Герберта Уэлса, интегрируя элементы их творчества в своё уникальное видение - как прошлого, так и будущего.
Влияние Лермонтова прослеживается в глубоком психологическом анализе персонажей и в теме конфликта личности с обществом. Лермонтов часто обращался к вопросам одиночества, поиска смысла жизни и внутренней борьбы героя. Замятин заимствует эту традицию, исследуя внутренний мир своих персонажей, их переживания и конфликты в условиях тоталитарного режима, где личность подавляется коллективным началом. Это придаёт роману «Мы» дополнительную глубину и позволяет читателю лучше понять мотивы и чувства героев.
Герберт Уэлс оказал влияние на Замятина как один из основоположников научной фантастики и антиутопии. Уэлс использовал фантастические элементы для осмысления возможных будущих и социальных изменений. Замятин следует этой традиции, создавая антиутопическую картину будущего, которая служит предупреждением о опасностях тоталитарного контроля и потери человечности. В «Мы» фантастические элементы (например, описание идеального, но угнетающего общества) сочетаются с реалистичным изображением человеческих эмоций, страхов и стремлений.
Таким образом, Замятин объединяет фантастику и реализм, создавая произведение, которое одновременно является предупреждением о возможных опасностях будущего и глубоким психологическим исследованием человеческой природы. Он использует элементы фантастики для создания убедительной картины возможного будущего, а элементы реализма — для раскрытия внутренних конфликтов и переживаний персонажей. Это сочетание позволяет Замятину создать многогранное и запоминающееся произведение, которое остаётся актуальным и в наше время.
Евгений Замятин был человеком своего времени и не мог не реагировать на тенденции в искусстве и литературе начала XX века, включая кубофутуризм. Однако его подход к изображению прошлого и будущего в романе «Мы» скорее отражает не прямую критику кубофутуризма, а более общие философские и социальные опасения, связанные с быстрыми изменениями в обществе.
Кубофутуризм акцентировал внимание на новизне, современности и отказе от традиционных ценностей в пользу экспериментальных форм. В отличие от этого, Замятин в своём романе показывает, к чему может привести полный отказ от прошлого и традиционных человеческих ценностей — к потере индивидуальности и свободы в тоталитарном обществе.
Таким образом, если говорить о связи темы прошлого и будущего в «Мы» с кубофутуризмом, то можно увидеть в произведении Замятина косвенную критику — через показ опасностей отказа от исторического наследия и рисков полного подчинения личности новым идеологиям и стандартам.
I-330 и её бунт. Героиня олицетворяет сопротивление потоку. Она организует заговор, ведёт Д‑503 к Зеленой Стене, открывает ему мир за пределами стеклянного города — то есть выводит за пределы потока.
Ключевой контраст тот же, что у Герберта Уэллса — волосатые руки Д‑503 внутри города и отсутствие волос на лице и руках у обитателей внешнего мира (элои), — выстраивает оппозицию «искусственное — естественное» и указывают на бесполость и деградацию.
В романе Замятина притча о дикаре и барометре служит аллегорией конфликт между естественной волей и тоталитарным рационализмом, желающим даже природу человека взять под контроль. Дикарь, пытающийся вручную изменить показания барометра, символизирует активное, но наивное вмешательство в законы природы. Европеец, который «стоит перед барометром» движет стрелки, олицетворяет правительство, которое хочет все контролировать.
Влияние Лермонтова прослеживается в глубоком психологическом анализе персонажей и в теме конфликта личности с обществом. Лермонтов часто обращался к вопросам одиночества, поиска смысла жизни и внутренней борьбы героя. Замятин заимствует эту традицию, исследуя внутренний мир своих персонажей, их переживания и конфликты в условиях тоталитарного режима, где личность подавляется коллективным началом. Это придаёт роману «Мы» дополнительную глубину и позволяет читателю лучше понять мотивы и чувства героев.
Герберт Уэлс оказал влияние на Замятина как один из основоположников научной фантастики и антиутопии. Уэлс использовал фантастические элементы для осмысления возможных будущих и социальных изменений. Замятин следует этой традиции, создавая антиутопическую картину будущего, которая служит предупреждением о опасностях тоталитарного контроля и потери человечности. В «Мы» фантастические элементы (например, описание идеального, но угнетающего общества) сочетаются с реалистичным изображением человеческих эмоций, страхов и стремлений.
Таким образом, Замятин объединяет фантастику и реализм, создавая произведение, которое одновременно является предупреждением о возможных опасностях будущего и глубоким психологическим исследованием человеческой природы. Он использует элементы фантастики для создания убедительной картины возможного будущего, а элементы реализма — для раскрытия внутренних конфликтов и переживаний персонажей. Это сочетание позволяет Замятину создать многогранное и запоминающееся произведение, которое остаётся актуальным и в наше время.
Евгений Замятин был человеком своего времени и не мог не реагировать на тенденции в искусстве и литературе начала XX века, включая кубофутуризм. Однако его подход к изображению прошлого и будущего в романе «Мы» скорее отражает не прямую критику кубофутуризма, а более общие философские и социальные опасения, связанные с быстрыми изменениями в обществе.
Кубофутуризм акцентировал внимание на новизне, современности и отказе от традиционных ценностей в пользу экспериментальных форм. В отличие от этого, Замятин в своём романе показывает, к чему может привести полный отказ от прошлого и традиционных человеческих ценностей — к потере индивидуальности и свободы в тоталитарном обществе.
Таким образом, если говорить о связи темы прошлого и будущего в «Мы» с кубофутуризмом, то можно увидеть в произведении Замятина косвенную критику — через показ опасностей отказа от исторического наследия и рисков полного подчинения личности новым идеологиям и стандартам.
I-330 и её бунт. Героиня олицетворяет сопротивление потоку. Она организует заговор, ведёт Д‑503 к Зеленой Стене, открывает ему мир за пределами стеклянного города — то есть выводит за пределы потока.
- Унификация. Гладкая кожа делает людей взаимозаменяемыми; индивидуальные признаки стираются.
Ключевой контраст тот же, что у Герберта Уэллса — волосатые руки Д‑503 внутри города и отсутствие волос на лице и руках у обитателей внешнего мира (элои), — выстраивает оппозицию «искусственное — естественное» и указывают на бесполость и деградацию.
В романе Замятина притча о дикаре и барометре служит аллегорией конфликт между естественной волей и тоталитарным рационализмом, желающим даже природу человека взять под контроль. Дикарь, пытающийся вручную изменить показания барометра, символизирует активное, но наивное вмешательство в законы природы. Европеец, который «стоит перед барометром» движет стрелки, олицетворяет правительство, которое хочет все контролировать.
Разумихин против утопической рациональности
В монологе Разумихина из «Преступления и наказания» Достоевский развёртывает метод приведения к абсурду — один из ключевых приёмов своей поэтики, позволяющий обнажить внутреннюю несостоятельность утопических теорий - он привел к абсурду и теорию Гегеля о рабах и господах (тварях дрожащих и право имеющих), он вложил в уста отрицательного героя Лужина экономическую теорию Маркса и Энгельса.
Суть приёма: последовательно доводя до логического предела посылки оппонентов (в данном случае — сторонников рационалистического переустройства общества), писатель демонстрирует, как эти посылки неизбежно ведут к античеловеческому результату. В полемике Разумихина такая редукция проявляется в чёткой цепочке следствий: от тезиса «среда заела» — к полному отрицанию «натуры», от идеи мгновенного совершенства — к механистической сборке общества из «кирпичиков».
Этот ход мысли перекликается с диалектикой критики утопизма у Маркса, хотя и в иной плоскости. Если Гегель выстраивал диалектику истории как закономерный процесс саморазвития духа, то Маркс, сохраняя идею исторической закономерности, настаивал на материальной, а не умозрительной основе социальных преобразований. Разумихин, не вступая в прямую полемику с марксизмом, интуитивно схватывает его уязвимость: утопическая мысль, оторванная от 'живой натуры', превращается в самодовлеющую схему - закономерности человечество будет пытаться устранить плановостью. Достоевский, прибегая к приведению к абсурду, показывает: когда теория объявляет себя единственным проводником к счастью, она начинает ломать реальность под свой чертёж — точно так, как это происходит в антиутопиях XX века - прямые линии во имя спокойствия, то есть могилы. При этом Разумихин хвалит Раскольникова за то, что тот рискнул пойти в сторону естественности пути человечества к прогрессу - разрешить гениям кровь по совести.
Особую глубину этой критике придаёт мотив, развёрнутый в «Сне смешного человека». Герой видит идеальную планету — мир без зла, страданий, противоречий. Однако именно эта безупречность делает его нелюбимым: «на эту планету нельзя было полюбить», ибо любовь требует встречи с живым, несовершенным, грешным. Здесь Достоевский формулирует антропологический противовес утопической логике: подлинную ценность имеет лишь та реальность, которая включает в себя свободу, боль и возможность ошибки. Идеальная модель, лишённая этих измерений, оказывается пустой — как фаланстера, сложенная из «кирпичиков», или Единое Государство,жзэ. счастье достигается ценой уничтожения личности. Таким образом, «Сон» становится художественным коррелятом к рассуждению Разумихина: и там, и тут речь идёт о невозможности свести жизнь к формуле.
Прежде всего, утопическая мысль постулирует возможность мгновенного достижения совершенства: «в один миг станут праведными». Такая установка предполагает отказ от исторического, живого процесса развития человечества в пользу абстрактной системы, «вышедшей из какой‑нибудь математической головы» - Маркс против Гегеля. Здесь выявляется принципиальная черта утопического мышления — стремление обойти сложность и длительность реального становления, заменив его одномоментной операцией по «правильной» сборке общества – плюс вмешательство государства в историю, желание ее улучшить, снизив преступность до нуля. Разумихин подчёркивает, что подобная система не учитывает ни внутренней динамики жизни, ни многообразия человеческих мотиваций: «логика предугадает три случая, а их миллион». Тем самым он фиксирует ограниченность рационалистической модели, которая, пытаясь охватить целое, неизбежно упрощает его до схемы – если сюда добавить мотив «Сна смешного человека», получится некая идеальная планета, которую не за что любить, только грешную землю, какая она есть, можно любить и желать жить на ней.
Существенным элементом разумихинской критики становится образ «кирпичиков» — метафора, обнажающая технологию утопического строительства. «Всё на одну только кладку кирпичиков да на расположение коридоров и комнат в фаланстере свели!» — в этой фразе сконцентрировано представление о человеке как об элементарном строительном материале, лишённом автономии и внутренней глубины. Утопическая фаланстера, таким образом, оказывается пространством, где индивидуальность подавляется ради геометрической правильности конструкции. Этот мотив находит прямое продолжение в антиутопиях XX века: у Замятина люди превращаются в «номера», лишённые имени и свободы; у Хаксли индивид генетически программируется ещё до рождения, исключая возможность самобытного становления; у Оруэлла язык и память уничтожаются, чтобы устранить саму возможность инакомыслия. Везде человек редуцируется до функционального элемента системы, а его «живая душа» объявляется помехой.
Разумихин вскрывает ещё один принципиальный аспект утопической логики — враждебность историческому процессу. «Не любят истории: “безобразия одни да глупости” — и всё одною только глупостью объясняется!» — здесь презрение утопистов к «неаккуратной» реальности, к её непредсказуемости и неоднородности. История для них — лишь хаос, который можно и нужно заменить идеальным чертежом. В антиутопиях это стремление доведено до предела: Единое Государство Замятина стирает личное, тронизирет над прошлым, над дикарем, заменяя живость жёстким регламентом ; Мировое Государство Хаксли конструирует человека в пробирке, исключая непредсказуемость рождения, детей учат ненавидеть природу, ведь природа мешает строительству; Партия Оруэлла переписывает историю ежечасно, уничтожая саму идею длительностии, а сами переписчики прошлого подвергаются пыткам для того, чтобы уже больше не сомневались в своей деятельности. Данная утопическая модель, отвергая историческую процессуальность, одновременно отвергает и жизнь как таковую — ведь жизнь и есть процесс.
Наконец, Разумихин формулирует ключевой антропологический тезис: «живая душа жизни потребует, живая душа не послушается механики, живая душа подозрительна, живая душа ретроградна!». Здесь «живая душа» становится символом сопротивления механистической рациональности. Утопическая система видит в ней угрозу, поскольку она не поддаётся полной калькуляции и контролю. В антиутопиях это сопротивление либо подавляется (у Замятина любовь и воображение объявляются болезнями), либо регулируется (у Хаксли эмоции контролируются фармакологически), либо уничтожается (у Оруэлла любое внутреннее несогласие карается до полного уничтожения личности). Тем самым утопическая мечта о совершенстве оборачивается тоталитарной реальностью, а «кирпичики» идеально укладываются в «фаланстеру», но ценой утраты человека.
Таким образом, монолог Разумихина представляет собой концептуальную префигурацию антиутопического дискурса XX века. В нём обозначены основные узлы конфликта между рационалистической утопией и живой реальностью: редукция человеческой природы, отрицание исторического процесса, механизация личности, подавление «живой души». Антиутопии Замятина, Хаксли и Оруэлла не столько создают новые смыслы, сколько демонстрируют практические следствия тех установок, которые Разумихин уже выявил на уровне теоретической критики. Его речь становится предупреждением: любая система, претендующая на мгновенное и полное переустройство человечества, неизбежно превращается в машину подавления, человек становится «кирпичиком» в идеально выстроенной, но безжизненной конструкции.
В монологе Разумихина из «Преступления и наказания» Достоевский развёртывает метод приведения к абсурду — один из ключевых приёмов своей поэтики, позволяющий обнажить внутреннюю несостоятельность утопических теорий - он привел к абсурду и теорию Гегеля о рабах и господах (тварях дрожащих и право имеющих), он вложил в уста отрицательного героя Лужина экономическую теорию Маркса и Энгельса.
Суть приёма: последовательно доводя до логического предела посылки оппонентов (в данном случае — сторонников рационалистического переустройства общества), писатель демонстрирует, как эти посылки неизбежно ведут к античеловеческому результату. В полемике Разумихина такая редукция проявляется в чёткой цепочке следствий: от тезиса «среда заела» — к полному отрицанию «натуры», от идеи мгновенного совершенства — к механистической сборке общества из «кирпичиков».
Этот ход мысли перекликается с диалектикой критики утопизма у Маркса, хотя и в иной плоскости. Если Гегель выстраивал диалектику истории как закономерный процесс саморазвития духа, то Маркс, сохраняя идею исторической закономерности, настаивал на материальной, а не умозрительной основе социальных преобразований. Разумихин, не вступая в прямую полемику с марксизмом, интуитивно схватывает его уязвимость: утопическая мысль, оторванная от 'живой натуры', превращается в самодовлеющую схему - закономерности человечество будет пытаться устранить плановостью. Достоевский, прибегая к приведению к абсурду, показывает: когда теория объявляет себя единственным проводником к счастью, она начинает ломать реальность под свой чертёж — точно так, как это происходит в антиутопиях XX века - прямые линии во имя спокойствия, то есть могилы. При этом Разумихин хвалит Раскольникова за то, что тот рискнул пойти в сторону естественности пути человечества к прогрессу - разрешить гениям кровь по совести.
Особую глубину этой критике придаёт мотив, развёрнутый в «Сне смешного человека». Герой видит идеальную планету — мир без зла, страданий, противоречий. Однако именно эта безупречность делает его нелюбимым: «на эту планету нельзя было полюбить», ибо любовь требует встречи с живым, несовершенным, грешным. Здесь Достоевский формулирует антропологический противовес утопической логике: подлинную ценность имеет лишь та реальность, которая включает в себя свободу, боль и возможность ошибки. Идеальная модель, лишённая этих измерений, оказывается пустой — как фаланстера, сложенная из «кирпичиков», или Единое Государство,жзэ. счастье достигается ценой уничтожения личности. Таким образом, «Сон» становится художественным коррелятом к рассуждению Разумихина: и там, и тут речь идёт о невозможности свести жизнь к формуле.
Прежде всего, утопическая мысль постулирует возможность мгновенного достижения совершенства: «в один миг станут праведными». Такая установка предполагает отказ от исторического, живого процесса развития человечества в пользу абстрактной системы, «вышедшей из какой‑нибудь математической головы» - Маркс против Гегеля. Здесь выявляется принципиальная черта утопического мышления — стремление обойти сложность и длительность реального становления, заменив его одномоментной операцией по «правильной» сборке общества – плюс вмешательство государства в историю, желание ее улучшить, снизив преступность до нуля. Разумихин подчёркивает, что подобная система не учитывает ни внутренней динамики жизни, ни многообразия человеческих мотиваций: «логика предугадает три случая, а их миллион». Тем самым он фиксирует ограниченность рационалистической модели, которая, пытаясь охватить целое, неизбежно упрощает его до схемы – если сюда добавить мотив «Сна смешного человека», получится некая идеальная планета, которую не за что любить, только грешную землю, какая она есть, можно любить и желать жить на ней.
Существенным элементом разумихинской критики становится образ «кирпичиков» — метафора, обнажающая технологию утопического строительства. «Всё на одну только кладку кирпичиков да на расположение коридоров и комнат в фаланстере свели!» — в этой фразе сконцентрировано представление о человеке как об элементарном строительном материале, лишённом автономии и внутренней глубины. Утопическая фаланстера, таким образом, оказывается пространством, где индивидуальность подавляется ради геометрической правильности конструкции. Этот мотив находит прямое продолжение в антиутопиях XX века: у Замятина люди превращаются в «номера», лишённые имени и свободы; у Хаксли индивид генетически программируется ещё до рождения, исключая возможность самобытного становления; у Оруэлла язык и память уничтожаются, чтобы устранить саму возможность инакомыслия. Везде человек редуцируется до функционального элемента системы, а его «живая душа» объявляется помехой.
Разумихин вскрывает ещё один принципиальный аспект утопической логики — враждебность историческому процессу. «Не любят истории: “безобразия одни да глупости” — и всё одною только глупостью объясняется!» — здесь презрение утопистов к «неаккуратной» реальности, к её непредсказуемости и неоднородности. История для них — лишь хаос, который можно и нужно заменить идеальным чертежом. В антиутопиях это стремление доведено до предела: Единое Государство Замятина стирает личное, тронизирет над прошлым, над дикарем, заменяя живость жёстким регламентом ; Мировое Государство Хаксли конструирует человека в пробирке, исключая непредсказуемость рождения, детей учат ненавидеть природу, ведь природа мешает строительству; Партия Оруэлла переписывает историю ежечасно, уничтожая саму идею длительностии, а сами переписчики прошлого подвергаются пыткам для того, чтобы уже больше не сомневались в своей деятельности. Данная утопическая модель, отвергая историческую процессуальность, одновременно отвергает и жизнь как таковую — ведь жизнь и есть процесс.
Наконец, Разумихин формулирует ключевой антропологический тезис: «живая душа жизни потребует, живая душа не послушается механики, живая душа подозрительна, живая душа ретроградна!». Здесь «живая душа» становится символом сопротивления механистической рациональности. Утопическая система видит в ней угрозу, поскольку она не поддаётся полной калькуляции и контролю. В антиутопиях это сопротивление либо подавляется (у Замятина любовь и воображение объявляются болезнями), либо регулируется (у Хаксли эмоции контролируются фармакологически), либо уничтожается (у Оруэлла любое внутреннее несогласие карается до полного уничтожения личности). Тем самым утопическая мечта о совершенстве оборачивается тоталитарной реальностью, а «кирпичики» идеально укладываются в «фаланстеру», но ценой утраты человека.
Таким образом, монолог Разумихина представляет собой концептуальную префигурацию антиутопического дискурса XX века. В нём обозначены основные узлы конфликта между рационалистической утопией и живой реальностью: редукция человеческой природы, отрицание исторического процесса, механизация личности, подавление «живой души». Антиутопии Замятина, Хаксли и Оруэлла не столько создают новые смыслы, сколько демонстрируют практические следствия тех установок, которые Разумихин уже выявил на уровне теоретической критики. Его речь становится предупреждением: любая система, претендующая на мгновенное и полное переустройство человечества, неизбежно превращается в машину подавления, человек становится «кирпичиком» в идеально выстроенной, но безжизненной конструкции.
Достоевский и "среда заела".
Голос Разумихина - но именно он страшнее голоса Раскольникова. Хотя те, кого он опровергает, страшнее всех голосов полифонии Достоевского.
Проблема отношения к кумирам
В каждой антиутопии есть один кумир, других личностей нет.
В романе “Мы” Евгения Замятина представитель власти - это Благодетель (оправдание зла во имя блага, намек на теодицею и Достоевского), руководитель государства и общества, его черты следующие:
"А наверху, на Кубе, возле Машины -- неподвижная, как из металла, фигура того, кого мы именуем Благодетелем. Лица отсюда, снизу, не разобрать: видно только, что оно ограничено строгими, величественными квадратными очертаниями. Но зато руки... Так иногда бывает на фотографических снимках: слишком близко, на первом плане поставленные руки -- выходят огромными, приковывают взор -- заслоняют собою все. Эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на коленях руки -- ясно: они -- каменные, и колени -- еле выдерживают их вес..."
В романе Оруэлла "1984" те же непогрешимость, власть, контроль (метафора Замятина - стеклянные этажи стали телевидением, которое следит за тобой), жестокость - колокол Замятина сменился пытками в комнате 101 Министерства Любви. Стерильность заменена боязнью младшего поколения. Непогрешимость кумира у Оруэлла идет за счет переписывания истории, он в принципе никогда не мог принимать неправильных решений, потому что эти неправильные решения тут же сменялись на правильные. Ну и конечно, за счет уничтожения того поколения, которое что-то еще помнит. В романе как раз показано, как ломают того человека, который что-то помнил и сам принимал участие в правительственных махинациях. Его нельзя оставлять в живых.
Задача Министерства правды - не допустить правды.
Министерства любви- не допустить никакой любви.
Из всего реального создана тайна.
Задание: Сравнить "1984" с "Крабатом" Пройслера по уровню алогизма и абсурда, в отношении любви и дружбы.
"Мастер не давал передышки, все подбавлял да подбавлял работы: "Куда ты подевался, Крабат? А ну-ка, оттащи мешки в амбар!", "Иди-ка сюда! Перевороши лопатой зерно, не то прорастет!", "В муке, что ты вчера просеял, полно мякины! После ужина просеешь снова! Пока не кончишь, спать не ложись!"
Мельница в Козельбрухе работала и в будни и в праздники, с раннего утра
до позднего вечера. Лишь раз в неделю, по пятницам, они кончали раньше, а по
субботам начинали часа на два позже. Крабат таскал мешки, просеивал муку,
колол дрова, разгребал снег, носил на кухню воду, чистил скребницей лошадей, убирал навоз -- дел хватало. Вечером, ложась на нары, чувствовал себя разбитым. Ломило поясницу, ныли руки и ноги, горели волдыри на плечах.
Крабат удивлялся своим товарищам. Тяжелая работа, казалось, совсем их не затрудняла -- никто не жаловался да никто особенно и не уставал".
Проблема исторической памяти
"А сегодня, если бы удалось воскресить фотографию, она, вероятно, и уликой не была бы. Ведь когда он увидел ее, Океания уже не воевала с Евразией и трое покойных должны были бы продавать родину агентам Остазии. А с той поры произошли еще повороты — два, три, он не помнил сколько. Наверное, признания покойных переписывались и переписывались, так что первоначальные факты и даты совсем уже ничего не значат. Прошлое не просто меняется, оно меняется непрерывно. Самым же кошмарным для него было то, что он никогда не понимал отчетливо, какую цель преследует это грандиозное надувательство. Сиюминутные выгоды от подделки прошлого очевидны, но конечная ее цель — загадка. Он снова взял ручку и написал: Я понимаю КАК; не понимаю ЗАЧЕМ".
Задание. Объясните герою, зачем государство подделывает прошлое? Как с прошлым боролись правители в антиутопиях Брэдбери и Замятина?
Проблема взаимоотношений в семье и выживания:
Общество потребления у Хаксли выращивает детей в пробирках - они не будут тратить время ни на отношения, ни на природу, ни на культуру- так общество потребления будет процветать. У Замятина отношения строго регламентированы, семьи также нет, у Оруэлла страх в семье: взрослые боятся детей.
Символика:
Символика романа “Мы” Замятина включает в себя следующие элементы:
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО - Достоевский
НЕЗНАНИЕ – СИЛА
"Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим"
"Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: „Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих“.
(Достоевский "Братья Карамазовы")
Свобода стала основой демагогии.
Символика Хаксли
Правителя не нужно представлять в виде символа, он сам символ, его знает весь мир. Знак Т. Правитель сам божество - Генри Форд. Символ общества потребления.
Символ неравенства природного, то есть альфы, беты, гаммы.
цветок - природа
книжка- культура
"Они сели в вертоплан, поднялись в воздух. Через десять минут они были уже над рубежом, отделяющим цивилизацию от дикости. Пересекая горы и долы, солончаки и пески, леса и лиловые недра каньонов, через утесы, острые пики и плоские месы гордо и неудержимо по прямой шла вдаль ограда — геометрический символ победной воли человека. А у ее подножия там и сям белела мозаика сухих костей, темнел еще не сгнивший труп на рыжеватой почве, отмечая место, где коснулся смертоносных проводов бык или олень, кугуар, дикобраз или койот или слетел на мертвечину гриф и сражен был током, словно небесной карой за прожорливость". (Анчар Пушкина)
В каждой антиутопии есть один кумир, других личностей нет.
В романе “Мы” Евгения Замятина представитель власти - это Благодетель (оправдание зла во имя блага, намек на теодицею и Достоевского), руководитель государства и общества, его черты следующие:
- Непогрешимость: Благодетель считается непогрешимым и идеальным человеком, который всегда принимает правильные решения для блага общества. Это просто - ведь его никто никогда не видел, как и его решений. Куб - непогрешимость углов, но сам куб об этом не знает, а скромность украшает правителя. Не знающий своих граней - безграничный - вот вам ваш футурум, вот оно, ваше искусство.
- Власть: Благодетель обладает абсолютной властью в государстве, его слово является законом и не подлежит обсуждению. Воспитана радость от восприятия его дел и планов. Они идеальны.
- Контроль: Благодетель контролирует все аспекты жизни граждан, от их работы до личной жизни. Дома из стекла.
- Жестокость: Благодетель не терпит инакомыслия и жестоко подавляет любые попытки восстания или несогласия с его политикой. Любые формы проявления чувств для государства представляют угрозу.
- Тайна ("чудо, тайна, авторитет" создают првление от дьявола): личность Благодетеля скрыта от граждан, что создает атмосферу таинственности и страха. Лишь образ - куб.
- Репрессии: Благодетель использует репрессии и насилие для поддержания своего авторитета и контроля над обществом.
- Стерильность: Благодетель пропагандирует идею стерильности, чтобы контролировать численность населения и предотвратить возможные восстания. Билеты на женщину - реминисценция из Достоевского: Возвращение билета. Образ Благодетеля во многом восходит к Великому Инквизитору Достоевского. Оба персонажа — тираны, которые маскируют свою власть под заботу о людях, отрицают свободу как источник страданий и стремятся создать «рай на земле» через подавление человеческой природы. Замятин прямо указывает на влияние Достоевского, называя его одним из своих литературных учителей.
"А наверху, на Кубе, возле Машины -- неподвижная, как из металла, фигура того, кого мы именуем Благодетелем. Лица отсюда, снизу, не разобрать: видно только, что оно ограничено строгими, величественными квадратными очертаниями. Но зато руки... Так иногда бывает на фотографических снимках: слишком близко, на первом плане поставленные руки -- выходят огромными, приковывают взор -- заслоняют собою все. Эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на коленях руки -- ясно: они -- каменные, и колени -- еле выдерживают их вес..."
В романе Оруэлла "1984" те же непогрешимость, власть, контроль (метафора Замятина - стеклянные этажи стали телевидением, которое следит за тобой), жестокость - колокол Замятина сменился пытками в комнате 101 Министерства Любви. Стерильность заменена боязнью младшего поколения. Непогрешимость кумира у Оруэлла идет за счет переписывания истории, он в принципе никогда не мог принимать неправильных решений, потому что эти неправильные решения тут же сменялись на правильные. Ну и конечно, за счет уничтожения того поколения, которое что-то еще помнит. В романе как раз показано, как ломают того человека, который что-то помнил и сам принимал участие в правительственных махинациях. Его нельзя оставлять в живых.
Задача Министерства правды - не допустить правды.
Министерства любви- не допустить никакой любви.
Из всего реального создана тайна.
Задание: Сравнить "1984" с "Крабатом" Пройслера по уровню алогизма и абсурда, в отношении любви и дружбы.
"Мастер не давал передышки, все подбавлял да подбавлял работы: "Куда ты подевался, Крабат? А ну-ка, оттащи мешки в амбар!", "Иди-ка сюда! Перевороши лопатой зерно, не то прорастет!", "В муке, что ты вчера просеял, полно мякины! После ужина просеешь снова! Пока не кончишь, спать не ложись!"
Мельница в Козельбрухе работала и в будни и в праздники, с раннего утра
до позднего вечера. Лишь раз в неделю, по пятницам, они кончали раньше, а по
субботам начинали часа на два позже. Крабат таскал мешки, просеивал муку,
колол дрова, разгребал снег, носил на кухню воду, чистил скребницей лошадей, убирал навоз -- дел хватало. Вечером, ложась на нары, чувствовал себя разбитым. Ломило поясницу, ныли руки и ноги, горели волдыри на плечах.
Крабат удивлялся своим товарищам. Тяжелая работа, казалось, совсем их не затрудняла -- никто не жаловался да никто особенно и не уставал".
Проблема исторической памяти
"А сегодня, если бы удалось воскресить фотографию, она, вероятно, и уликой не была бы. Ведь когда он увидел ее, Океания уже не воевала с Евразией и трое покойных должны были бы продавать родину агентам Остазии. А с той поры произошли еще повороты — два, три, он не помнил сколько. Наверное, признания покойных переписывались и переписывались, так что первоначальные факты и даты совсем уже ничего не значат. Прошлое не просто меняется, оно меняется непрерывно. Самым же кошмарным для него было то, что он никогда не понимал отчетливо, какую цель преследует это грандиозное надувательство. Сиюминутные выгоды от подделки прошлого очевидны, но конечная ее цель — загадка. Он снова взял ручку и написал: Я понимаю КАК; не понимаю ЗАЧЕМ".
Задание. Объясните герою, зачем государство подделывает прошлое? Как с прошлым боролись правители в антиутопиях Брэдбери и Замятина?
Проблема взаимоотношений в семье и выживания:
Общество потребления у Хаксли выращивает детей в пробирках - они не будут тратить время ни на отношения, ни на природу, ни на культуру- так общество потребления будет процветать. У Замятина отношения строго регламентированы, семьи также нет, у Оруэлла страх в семье: взрослые боятся детей.
Символика:
Символика романа “Мы” Замятина включает в себя следующие элементы:
- Символ Единого Государства: общество, в котором живут герои романа, является тоталитарным и контролируется государством. Все жители живут по строгим правилам и законам, и любое отклонение от нормы рассматривается как преступление.
- Символ Стены: стена, окружающая Единое Государство, символизирует изоляцию от внешнего мира и невозможность покинуть страну.
- Символ Благодетеля: руководитель Единого Государства, Благодетель, является символом власти и непогрешимости. Куб - непогрешимость математическая, связывается с тяжелой рукой как фразеологизмом - жестокость, палочная дисциплина.
- Числа - люди, буквы - люди: жители Единого Государства имеют номера вместо имен, что символизирует их обезличивание и контроль со стороны государства. Женщины - гласные буквы, мужчины - согласные. Это экономит внимание, прекрасно для статистики, тотального контроля. "Быть банальным- исполнять свой долг". У нас дают имена по святкам, ведь имя - вещь религиозная. Нумер изначально лишен божественной благодати.
- Символ Зелёной Стены: Зелёная Стена - это граница между Единым Государством и дикой природой, которая символизирует границу между порядком и хаосом, между цивилизацией и природой. Находиться под колпаком.
- Интеграл - символ прогресса для жителей, а для читателей- символ всепоглощающего обмана.
- Часовая скрижаль - как в скрижали из Корана. Но все предрешено распорядком дня.
- В религии предопределение связано с высшей мудростью; в романе — с рациональной эффективностью и контролем.
- Знак “В” - символ верности Партии и Старшему Брату, который люди обязаны носить на одежде. Он значит "возраст", ‘заботаʼ, ‘авторитетʼ, ‘значимостьʼ, ‘родство".
- Усы, сапоги - символ Сталина.
- Темные окна в министерстве любви.
- Крысы - подопытная крыса, все государство проводит на людях эксперименты. Означает неприятности (Ревизор. Гоголь)
- Птица - свобода.
- Шоколад - символ сладкой жизни. И все время его урезают.
- Новояз - искусственный язык, созданный Партией для контроля над мыслями и языком людей. Экономит языковые средства при общении, что важно в экономике недопотребления: люди недопотребляют продукты и недопотребляют смыслы. Как партия являет собой культ усердия и самоотречения, так и язык себя самоотрекает.
- Лозунги и названия, основанные на оксюмороне: в Министерстве любви Уинсона пытали.
- Братство - символ усечения лозунга французской революции - "свобода, равенство, братство", а, следовательно, химера, нужная государству для определения мыслепреступников.
- Рваный плакат "Англсоц" символизирует рваный язык, на котором написано слово.
- Монета представляет собой символ алогичности существования - голова Большого Брата и на другой стороне лозунги:
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО - Достоевский
НЕЗНАНИЕ – СИЛА
"Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим"
"Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: „Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих“.
(Достоевский "Братья Карамазовы")
Свобода стала основой демагогии.
Символика Хаксли
Правителя не нужно представлять в виде символа, он сам символ, его знает весь мир. Знак Т. Правитель сам божество - Генри Форд. Символ общества потребления.
Символ неравенства природного, то есть альфы, беты, гаммы.
цветок - природа
книжка- культура
"Они сели в вертоплан, поднялись в воздух. Через десять минут они были уже над рубежом, отделяющим цивилизацию от дикости. Пересекая горы и долы, солончаки и пески, леса и лиловые недра каньонов, через утесы, острые пики и плоские месы гордо и неудержимо по прямой шла вдаль ограда — геометрический символ победной воли человека. А у ее подножия там и сям белела мозаика сухих костей, темнел еще не сгнивший труп на рыжеватой почве, отмечая место, где коснулся смертоносных проводов бык или олень, кугуар, дикобраз или койот или слетел на мертвечину гриф и сражен был током, словно небесной карой за прожорливость". (Анчар Пушкина)
Что значит в обыденном, дозамятинском смысле скрижаль, личные часы, материнская норма, зеленая стена и благодетель? Какие ассоциации эти слова вызывают у вас?
Докажите, что Часовая Скрижаль, Личные Часы, Материнская Норма, Зеленая Стена, Благодетель - пародии на уровне карнавализации.
Вопросы для обсуждения
В чём сходство и различие между Ляухуль‑Махфуз (Хранимой Скрижалью) из Корана и Часовой Скрижалью в романе Замятина?
Почему Замятин выбирает именно образ «скрижали» для названия распорядка дня? Что он хочет подчеркнуть этой аллюзией?
Как Часовая Скрижаль влияет на сознание и поведение «нумеров»? Приведите 2–3 примера из текста.
Можно ли считать Часовую Скрижаль «новым законом» Единого Государства? Чем она отличается от традиционных нравственных кодексов?
В чём заключается ирония названия «Часовая Скрижаль»? Как время (час) переосмысляет идею вечности, присущую религиозным скрижалям?
Как система личных часов (16:00–17:00 и 21:00–22:00) иллюстрирует двойственность тоталитарного контроля — видимую свободу и реальную несвободу?
В каких современных институтах или практиках можно увидеть отголоски «часовой скрижали» — регламентации жизни до мельчайших деталей?
Почему Благодетель нуждается именно в таком механизме контроля? Как Скрижаль помогает предотвращать бунт?
Можно ли интерпретировать Часовую Скрижаль как метафору рационализации вообще — процесса, при котором эффективность становится высшей ценностью?
Как образ Скрижали связан с главной антиутопической идеей романа: счастье без свободы — это не счастье?
Сочинение "Запретная любовь в романе Оруэлла "1984"
План
- Запреты и их нарушение в антиутопиях.
- Что такое запретная любовь (исторический экскурс в историю средневековья)
- Исторические предпосылки возникновения положения, при котором человеческие чувства становятся ничем (в романе)
- Две женщины Уинстона.
- Две стороны искушения - Адам, Ева - бог, палач-жертва.
- Участие героев во внешних событиях.
- Сомнения героев относительно правильности поступков.
- Животное и человеческое в романе.
- Смысл введения внесюжетных лирических отступлений с участием Джулии.
- Почему любовь в тоталитарном обществе невозможна.
- Смысл введения любовной линии в антиутопию.
Мы знаем, что с мотивом возвращения связаны утопии Андрея Платонова. К антиутопиям можно отнести те произведения Платонова, где в процессе технического прогресса и реализации стремления к светлому будущему герой достигает точки невозврата - как неорганическое тело. Такова "Лунная бомба". Герой сначала убивает ребенка, убивает рабочих, убивает надзирателя, затем в лунной бомбе совершает полет и не возвращается. Это он в себе убивает ребенка, рабочего и надзирателя - предельные сущности человеческого существования.
В романе А. В. Тюкина «Дикая песня» (2014) мы имеем дело с постапокалиптической антиутопией, насыщенной переживаниями потомков: «Дело в том, – он горестно потупил глаза и скорбно сжал губы, – что современная для нас, людей двадцать первого века, мировая цивилизация на настоящий исторический момент перестала существовать на планете Земля. Перестала быть, как данность, – сказал Ли Мань, и на его глазах блеснули слезы». Отцами основателями нового мира снова будут… военные, и снова ноосфера даст им воплотить порядок муштрой и религией прежних времен. Итак, на обломках уничтоженной цивилизации складывается новое общество — не как прорыв к иному бытию, а как механическое воспроизведение механизмов тоталитарной власти. Особенность книги — в сознательной установке на мифологический способ мышления: реальность здесь подаётся не через рациональную причинно‑следственную связь, а через систему образов, ритуалов и сакральных текстов, что позволяет автору обнажить природу диктатуры, религиозного фанатизма и утраты культурной памяти.
Действие разворачивается после глобальной катастрофы: цивилизация стёрта, население сократилось до нескольких сотен тысяч, уцелевшие живут в условиях, близких к родоплеменным, на пороге перехода к раннеклассовому строю. Ключевой симптом распада — утрата исторической памяти: книги, технологии, символы прежней культуры воспринимаются как бессмысленные артефакты. Это забвение, поданное как структурная амнезия: люди не помнят отдельные факты, они не помятуют и сам способ осмысления прошлого, они управляемы, ибо беспамятны (как и мы). В таком контексте неизбежно возникает фигура Пророка — харизматического лидера, который заполняет вакуум смысла новой доктриной. Его учение провозглашает единобожие: все прежние боги — лишь проявления Единого Божества, его «руки и ноги, глаза и уши». На первый взгляд, это шаг к синтезу и преодолению политеизма; на деле — инструмент централизации власти: поклонение отдельным божествам объявляется преступлением, равносильным «отрезанию рук и ног у живого человека».
Антиутопический эффект строится на нескольких уровнях. Во‑первых, на уровне языковой манипуляции: речь Пророка насыщена библейскими оборотами («отречёмся от старого мира», «очиститесь»), но лишена подлинного духовного содержания. Риторика спасения оборачивается риторикой подчинения; ритуальное омовение — не акт очищения, а знак принятия новой догмы. Во‑вторых, на уровне социальной инженерии: новая система воспроизводит пороки старой — репрессии, культ личности, эксплуатацию, — но уже без идеологической оболочки. В‑третьих, на уровне исторической цикличности: тирания предстаёт как вечный механизм, который перезапускается на новых обломках, меняя лишь имена и символы.
Особую роль играют реминисценции — структурный элемент постмодернистского текста. Библейские аллюзии (образ Пророка, мотив «озера огня», сцена свержения идолов) работают на остранение: читатель узнаёт знакомые мотивы, но видит их искажёнными. Так, пророк напоминает ветхозаветных пророков, но лишён их освободительной миссии; «озеро огня» отсылает к апокалиптическим образам, но служит не предупреждению, а запугиванию; свержение идолов пародирует летописное крещение Руси, однако в романе это не просвещение, а насильственная замена одного культа другим.
Исторические аллюзии ещё более резки. «Карла» (Карл Маркс) и «плешивый Ильич козлобородый» (Ленин) превращены в идолов — не как сатирический выпад, а как симптом мифологизации истории. Их имена звучат архаично и гротескно, что подчёркивает: для новых поколений это уже не мыслители, а пугающие божества. Здесь важна не личная оценка автора, а демонстрация механизма: идеи, оторванные от контекста, неизбежно превращаются в пустые ритуалы.
Особое место занимает «Сказание об Иосифе Ужасном» — пародийная «библия» нового мира. В образе Иосифа соединены черты библейского Иосифа (из Книги Бытия) и исторических деспотов: он продаёт подданных в рабство, устраивает голодомор, приносит человеческие жертвы. Сказание о тиране легитимирует насилие, становясь «священным текстом» - оправдания зла Благом, возникает старая добрая теодицея. Усиленная военщиной, военной необходимостью, теодицея не объясняет мир, а создаёт его, задавая правила старой игры – единственной, которую усвоили пришельцы в своем тоталитарном мире.
Художественные приёмы усиливают эффект абсурда. Полистилистика — смешение библейского слога, фольклорных формул и современной разговорной речи — создаёт ощущение «лоскутной» культуры: обрывки прошлого калейдоскопичны, хаотично произвольны. Ирония и гротеск (особенно в образах Пророка и Иосифа) не развлекают, а обнажают абсурд власти, которая претендует на абсолютную истину историософии, которая в круговом, а не спиральном, как полагали гегельянцы, движении: «История бежит, бежит, а результат – один и тот же». Символика воды (сцены купания/омовения) работает как двойной знак: с одной стороны, очищение, с другой — подчинение; это не освобождение, а новое закрепощение, и тот же поток истории, хотя в одну воду нельзя войти дважды, но тут так уж пришлось, как по команде человека, который привык к командам.
«Дикая песня» — антиутопия, скорее, не о конце света, он давно уже нраступил и надежно закрепился, а рассуждение о природе культурной памяти и власти. Тюкин показывает, как тоталитаризм возникает на руинах катастрофы, как политологи всех времен и народов, используя страх и мифологию, идеи превращают в идолов, а язык — в инструмент манипуляции. Цикличность истории обрекает человечество на повторение ошибок.
Роман о том, как утопии легко превращаются в антиутопии, а спасители — в тиранов. И главное — механизм этот не вне нас, а внутри: он запускается там, где память уступает место мифу. Он работает по принципу: ничто не спасет. Автор сказал в интервью «Литературоведению для школьников»: «…искусство мало что меняет в общественной психологии. Десятки если не сотни миллионов людей в СССР слушали Высоцкого на магнитофонах, а потом на пластинках, смотрели "10 дней, которые потрясли мир" по телевизору. И от чего это их спасло? От взаимной резни на Кавказе и в Средней Азии, от сначала ненависти к коммунистам и обожествления Ельцина, а потом наоборот?... "Социальная справедливость"? Любой, у кого нет квартиры, посчитает вполне справедливым забрать квартиру (да ровно и что угодно другое) у законного владельца, потому что для него "кто богат - тот и гад". Вся мужская часть героев "Неба медного" любила и Высоцкого, и Любимова, и Золотухина, и Филатова... И от чего это их спасло?»
Финальная сцена романа звучит как тихая эпитафия — надгробная надпись о заблаговременной нашей всеобщей смерти, скорбная козлина песнь о почти сбывшемся чуде. Герои говорят: «Ну, вот мы и дома», — но интонация улыбки Джона Картера выдаёт не радость, и даже не облегчение от того, что ужас миновал. Это не триумф возвращения, а недоумение-выдох после кошмара: «И ничего такого…», — начинает Сафронов, словно уговаривая себя, что всё объяснимо — «пространственно‑временное искривление», «парадокс антиматерии», «Теория Относительности Эйнштейна». Но фраза обрывается: он смотрит пристально и молчит. В этом молчании — главный смысл: рациональные объяснения рассыпаются перед лицом пережитого.
Что же они увидели? Не раны, не следы беды — а отсутствие следов. «Чудо… Это чудо…» — повторяют они, не веря, что остались вместе и живы. Но тут же — тихая, почти незаметная трещина: «Не достать стакана со столика. Не взять листа бумаги…» Детали и в них метафизическая утрата: мир стал прозрачным, как стекло замятинского города или окно иллюминатора. Он виден во всей красоте — «голубая, и коричневатая, и снежно‑белая атмосферная толщь», «цепи тёмных гор», «зелень амазонской сельвы», «блики солнца в озёрах», — но он недоступен. Герои парят над ним, как призраки, и лёгкость их бытия граничит с невесомостью смерти.
Здесь возникает прямая перекличка с «Сном смешного человека» Достоевского. В обоих текстах чудо — не победа над злом, а прозрение сквозь него. У Достоевского герой видит рай на земле, но понимает: это рай, который люди уже потеряли; его пробуждение — не возвращение к счастью, а знание истины, от которой нельзя отвернуться. Так и в финале «Дикой песни»: чудо — в осознании, что мир мог бы быть иным, но именно мог бы, а не стал.
И все-таки горечь и любовь – лейтмотивы романа в большей степени, чем в замятинском. Ближе к Достоевскому, там любовь жалость к миру, красота, которая едва не погибла. Это любовь бледна, болезненна, как щеки первой чахоточной жены Достоевского – Исаевой, она рождена не из полноты, а из утраты: герои видят землю во всей её красоте, но догадываются, что она — ноосферное явление у всех, как за стеклом. Они не могут прикоснуться, но смотрят — и в этом взгляде больше любви, чем в любом объятии. Как у Достоевского, любовь возникает там, где человек перестаёт быть смешным для себя и становится важным для других. В «Дикой песне» герои не смеются над миром – военизированные подразделения даже в космосе чужды особой рефлексии, обвинений — они жалеют его, потому что видели, как легко он мог исчезнуть.
«И все молчали... И смотрели с изумлением – без порезов, без царапин.
– Чудо… Это чудо… – говорили и не верили. И не видели метин недавней
беды. Они – вмеcте?.. И они – живы?.. Только... не достать стакана
со столика. Не взять листа бумаги… И еще – легко-легко. Так легко, что
хочется взлететь, и… Вот и Ли, и старый Джон, Сафронов и Марыся. Перед ними, словно за стеклом иллюминатора, как когда-то в бездонной космической мгле, проплывала голубая, и коричневатая, и снежно-белая атмосферная толщь и
твердь земная. Цепи темных гор и зелень амазонской сельвы. Вот ниточки
и ленты рек. Блики солнца в озерах и заливах. Спиралями закрученные
облачные вихри, гигантскими улитками распластавшиеся над Землей».
Финал — память, свидетельство о границе между бытием и небытием. Эпитафия — все погибло, для автора , а для читателя «и мы были здесь. Мы видели. Мы почти потеряли». То же замятинское «Мы» . В эпитафии нет утешения, но есть красота, хрупкость, правда о болезненной грешности жизни.
И ещё — эпитафия - потому что любовь в таком финале становится последним словом. Как у Достоевского, она не спасает мир, но даёт человеку силы жить дальше, зная, что мир может быть уничтожен. Это любовь-память, любовь-прощение, любовь-благодарность за то, что ещё есть на что смотреть.
Так «Дикая песня» завершает свой круг: от ужаса разрушения — к тихому свету любви, которая не отменяет трагедию, но делает её переносимой. Это и есть эпитафия — не смерти, а почти смерти, и любви, которая родилась из этого «почти» как некая надежда, мы еще живы?
Действие разворачивается после глобальной катастрофы: цивилизация стёрта, население сократилось до нескольких сотен тысяч, уцелевшие живут в условиях, близких к родоплеменным, на пороге перехода к раннеклассовому строю. Ключевой симптом распада — утрата исторической памяти: книги, технологии, символы прежней культуры воспринимаются как бессмысленные артефакты. Это забвение, поданное как структурная амнезия: люди не помнят отдельные факты, они не помятуют и сам способ осмысления прошлого, они управляемы, ибо беспамятны (как и мы). В таком контексте неизбежно возникает фигура Пророка — харизматического лидера, который заполняет вакуум смысла новой доктриной. Его учение провозглашает единобожие: все прежние боги — лишь проявления Единого Божества, его «руки и ноги, глаза и уши». На первый взгляд, это шаг к синтезу и преодолению политеизма; на деле — инструмент централизации власти: поклонение отдельным божествам объявляется преступлением, равносильным «отрезанию рук и ног у живого человека».
Антиутопический эффект строится на нескольких уровнях. Во‑первых, на уровне языковой манипуляции: речь Пророка насыщена библейскими оборотами («отречёмся от старого мира», «очиститесь»), но лишена подлинного духовного содержания. Риторика спасения оборачивается риторикой подчинения; ритуальное омовение — не акт очищения, а знак принятия новой догмы. Во‑вторых, на уровне социальной инженерии: новая система воспроизводит пороки старой — репрессии, культ личности, эксплуатацию, — но уже без идеологической оболочки. В‑третьих, на уровне исторической цикличности: тирания предстаёт как вечный механизм, который перезапускается на новых обломках, меняя лишь имена и символы.
Особую роль играют реминисценции — структурный элемент постмодернистского текста. Библейские аллюзии (образ Пророка, мотив «озера огня», сцена свержения идолов) работают на остранение: читатель узнаёт знакомые мотивы, но видит их искажёнными. Так, пророк напоминает ветхозаветных пророков, но лишён их освободительной миссии; «озеро огня» отсылает к апокалиптическим образам, но служит не предупреждению, а запугиванию; свержение идолов пародирует летописное крещение Руси, однако в романе это не просвещение, а насильственная замена одного культа другим.
Исторические аллюзии ещё более резки. «Карла» (Карл Маркс) и «плешивый Ильич козлобородый» (Ленин) превращены в идолов — не как сатирический выпад, а как симптом мифологизации истории. Их имена звучат архаично и гротескно, что подчёркивает: для новых поколений это уже не мыслители, а пугающие божества. Здесь важна не личная оценка автора, а демонстрация механизма: идеи, оторванные от контекста, неизбежно превращаются в пустые ритуалы.
Особое место занимает «Сказание об Иосифе Ужасном» — пародийная «библия» нового мира. В образе Иосифа соединены черты библейского Иосифа (из Книги Бытия) и исторических деспотов: он продаёт подданных в рабство, устраивает голодомор, приносит человеческие жертвы. Сказание о тиране легитимирует насилие, становясь «священным текстом» - оправдания зла Благом, возникает старая добрая теодицея. Усиленная военщиной, военной необходимостью, теодицея не объясняет мир, а создаёт его, задавая правила старой игры – единственной, которую усвоили пришельцы в своем тоталитарном мире.
Художественные приёмы усиливают эффект абсурда. Полистилистика — смешение библейского слога, фольклорных формул и современной разговорной речи — создаёт ощущение «лоскутной» культуры: обрывки прошлого калейдоскопичны, хаотично произвольны. Ирония и гротеск (особенно в образах Пророка и Иосифа) не развлекают, а обнажают абсурд власти, которая претендует на абсолютную истину историософии, которая в круговом, а не спиральном, как полагали гегельянцы, движении: «История бежит, бежит, а результат – один и тот же». Символика воды (сцены купания/омовения) работает как двойной знак: с одной стороны, очищение, с другой — подчинение; это не освобождение, а новое закрепощение, и тот же поток истории, хотя в одну воду нельзя войти дважды, но тут так уж пришлось, как по команде человека, который привык к командам.
«Дикая песня» — антиутопия, скорее, не о конце света, он давно уже нраступил и надежно закрепился, а рассуждение о природе культурной памяти и власти. Тюкин показывает, как тоталитаризм возникает на руинах катастрофы, как политологи всех времен и народов, используя страх и мифологию, идеи превращают в идолов, а язык — в инструмент манипуляции. Цикличность истории обрекает человечество на повторение ошибок.
Роман о том, как утопии легко превращаются в антиутопии, а спасители — в тиранов. И главное — механизм этот не вне нас, а внутри: он запускается там, где память уступает место мифу. Он работает по принципу: ничто не спасет. Автор сказал в интервью «Литературоведению для школьников»: «…искусство мало что меняет в общественной психологии. Десятки если не сотни миллионов людей в СССР слушали Высоцкого на магнитофонах, а потом на пластинках, смотрели "10 дней, которые потрясли мир" по телевизору. И от чего это их спасло? От взаимной резни на Кавказе и в Средней Азии, от сначала ненависти к коммунистам и обожествления Ельцина, а потом наоборот?... "Социальная справедливость"? Любой, у кого нет квартиры, посчитает вполне справедливым забрать квартиру (да ровно и что угодно другое) у законного владельца, потому что для него "кто богат - тот и гад". Вся мужская часть героев "Неба медного" любила и Высоцкого, и Любимова, и Золотухина, и Филатова... И от чего это их спасло?»
Финальная сцена романа звучит как тихая эпитафия — надгробная надпись о заблаговременной нашей всеобщей смерти, скорбная козлина песнь о почти сбывшемся чуде. Герои говорят: «Ну, вот мы и дома», — но интонация улыбки Джона Картера выдаёт не радость, и даже не облегчение от того, что ужас миновал. Это не триумф возвращения, а недоумение-выдох после кошмара: «И ничего такого…», — начинает Сафронов, словно уговаривая себя, что всё объяснимо — «пространственно‑временное искривление», «парадокс антиматерии», «Теория Относительности Эйнштейна». Но фраза обрывается: он смотрит пристально и молчит. В этом молчании — главный смысл: рациональные объяснения рассыпаются перед лицом пережитого.
Что же они увидели? Не раны, не следы беды — а отсутствие следов. «Чудо… Это чудо…» — повторяют они, не веря, что остались вместе и живы. Но тут же — тихая, почти незаметная трещина: «Не достать стакана со столика. Не взять листа бумаги…» Детали и в них метафизическая утрата: мир стал прозрачным, как стекло замятинского города или окно иллюминатора. Он виден во всей красоте — «голубая, и коричневатая, и снежно‑белая атмосферная толщь», «цепи тёмных гор», «зелень амазонской сельвы», «блики солнца в озёрах», — но он недоступен. Герои парят над ним, как призраки, и лёгкость их бытия граничит с невесомостью смерти.
Здесь возникает прямая перекличка с «Сном смешного человека» Достоевского. В обоих текстах чудо — не победа над злом, а прозрение сквозь него. У Достоевского герой видит рай на земле, но понимает: это рай, который люди уже потеряли; его пробуждение — не возвращение к счастью, а знание истины, от которой нельзя отвернуться. Так и в финале «Дикой песни»: чудо — в осознании, что мир мог бы быть иным, но именно мог бы, а не стал.
И все-таки горечь и любовь – лейтмотивы романа в большей степени, чем в замятинском. Ближе к Достоевскому, там любовь жалость к миру, красота, которая едва не погибла. Это любовь бледна, болезненна, как щеки первой чахоточной жены Достоевского – Исаевой, она рождена не из полноты, а из утраты: герои видят землю во всей её красоте, но догадываются, что она — ноосферное явление у всех, как за стеклом. Они не могут прикоснуться, но смотрят — и в этом взгляде больше любви, чем в любом объятии. Как у Достоевского, любовь возникает там, где человек перестаёт быть смешным для себя и становится важным для других. В «Дикой песне» герои не смеются над миром – военизированные подразделения даже в космосе чужды особой рефлексии, обвинений — они жалеют его, потому что видели, как легко он мог исчезнуть.
«И все молчали... И смотрели с изумлением – без порезов, без царапин.
– Чудо… Это чудо… – говорили и не верили. И не видели метин недавней
беды. Они – вмеcте?.. И они – живы?.. Только... не достать стакана
со столика. Не взять листа бумаги… И еще – легко-легко. Так легко, что
хочется взлететь, и… Вот и Ли, и старый Джон, Сафронов и Марыся. Перед ними, словно за стеклом иллюминатора, как когда-то в бездонной космической мгле, проплывала голубая, и коричневатая, и снежно-белая атмосферная толщь и
твердь земная. Цепи темных гор и зелень амазонской сельвы. Вот ниточки
и ленты рек. Блики солнца в озерах и заливах. Спиралями закрученные
облачные вихри, гигантскими улитками распластавшиеся над Землей».
Финал — память, свидетельство о границе между бытием и небытием. Эпитафия — все погибло, для автора , а для читателя «и мы были здесь. Мы видели. Мы почти потеряли». То же замятинское «Мы» . В эпитафии нет утешения, но есть красота, хрупкость, правда о болезненной грешности жизни.
И ещё — эпитафия - потому что любовь в таком финале становится последним словом. Как у Достоевского, она не спасает мир, но даёт человеку силы жить дальше, зная, что мир может быть уничтожен. Это любовь-память, любовь-прощение, любовь-благодарность за то, что ещё есть на что смотреть.
Так «Дикая песня» завершает свой круг: от ужаса разрушения — к тихому свету любви, которая не отменяет трагедию, но делает её переносимой. Это и есть эпитафия — не смерти, а почти смерти, и любви, которая родилась из этого «почти» как некая надежда, мы еще живы?
Вопросы для обсуждения романа А. В. Тюкина «Дикая песня» (в жанре антиутопии)
На понимание сюжета и мира текста
Как в романе изображён постапокалиптический мир? Какие детали подчёркивают масштаб катастрофы и степень деградации общества?
Почему уцелевшие не могут осмыслять артефакты прежней цивилизации? В чём суть «структурной амнезии», описанной в тексте?
Какова роль Пророка в новом обществе? Чем его учение отличается от традиционных монотеистических религий?
Что символизирует сцена свержения идолов и последующего омовения? Почему она не приводит к освобождению, а закрепляет новую власть?
На анализ антиутопических механизмов
Какие приёмы использует Пророк для удержания власти? Сопоставьте их с классическими признаками тоталитарной системы (цензура, культ личности, мифологизация истории).
В чём заключается «языковая манипуляция» в речи Пророка? Приведите примеры библейских оборотов, лишённых подлинного духовного содержания.
Почему новая система воспроизводит пороки старой цивилизации, несмотря на декларируемый «перезапуск»?
Как в романе показано превращение идей в «идолов»? Проанализируйте образы «Карлы» и «плешивого Ильича козлобородого».
На работу с реминисценциями и аллюзиями
Какие библейские сюжеты и мотивы переосмысляются в романе? В чём эффект их «остранения» (например, образ Пророка vs ветхозаветных пророков)?
Почему «Сказание об Иосифе Ужасном» выполняет роль «священного текста» новой эпохи? Как оно легитимирует насилие?
В чём сходство и различие между библейским Иосифом (Книга Бытия) и Иосифом Ужасным из романа?
Как исторические аллюзии (Маркс, Ленин) работают на общую идею антиутопии? Почему их имена звучат архаично и гротескно?
На осмысление художественных приёмов
Как полистилистика (смешение библейского слога, фольклора и современной речи) отражает состояние нового общества?
Какую роль играет символика воды в финале? Почему омовение не становится актом очищения?
В чём функция иронии и гротеска в образах Пророка и Иосифа Ужасного?
Сравните финал «Дикой песни» с «Сном смешного человека» Достоевского. В чём сходство переживания «чуда» и любви к миру?
Какие черты классической антиутопии (например, у Оруэлла или Хаксли) можно найти в романе Тюкина? Чем он от них отличается?
Проблемные и дискуссионные вопросы
Можно ли считать Пророка «спасителем» или он — лишь новый тиран? Аргументируйте свою позицию.
Является ли «Дикая песня» предупреждением о будущем или рефлексией о природе власти в любом обществе?
Возможен ли в мире романа выход из цикла тирании? Какие намёки на это даёт финал?
Как роман отвечает на вопрос: что происходит, когда память уступает место мифу?
В чём автор видит главную угрозу для человечества: в катастрофе как таковой или в способе реагирования на неё?
На понимание сюжета и мира текста
Как в романе изображён постапокалиптический мир? Какие детали подчёркивают масштаб катастрофы и степень деградации общества?
Почему уцелевшие не могут осмыслять артефакты прежней цивилизации? В чём суть «структурной амнезии», описанной в тексте?
Какова роль Пророка в новом обществе? Чем его учение отличается от традиционных монотеистических религий?
Что символизирует сцена свержения идолов и последующего омовения? Почему она не приводит к освобождению, а закрепляет новую власть?
На анализ антиутопических механизмов
Какие приёмы использует Пророк для удержания власти? Сопоставьте их с классическими признаками тоталитарной системы (цензура, культ личности, мифологизация истории).
В чём заключается «языковая манипуляция» в речи Пророка? Приведите примеры библейских оборотов, лишённых подлинного духовного содержания.
Почему новая система воспроизводит пороки старой цивилизации, несмотря на декларируемый «перезапуск»?
Как в романе показано превращение идей в «идолов»? Проанализируйте образы «Карлы» и «плешивого Ильича козлобородого».
На работу с реминисценциями и аллюзиями
Какие библейские сюжеты и мотивы переосмысляются в романе? В чём эффект их «остранения» (например, образ Пророка vs ветхозаветных пророков)?
Почему «Сказание об Иосифе Ужасном» выполняет роль «священного текста» новой эпохи? Как оно легитимирует насилие?
В чём сходство и различие между библейским Иосифом (Книга Бытия) и Иосифом Ужасным из романа?
Как исторические аллюзии (Маркс, Ленин) работают на общую идею антиутопии? Почему их имена звучат архаично и гротескно?
На осмысление художественных приёмов
Как полистилистика (смешение библейского слога, фольклора и современной речи) отражает состояние нового общества?
Какую роль играет символика воды в финале? Почему омовение не становится актом очищения?
В чём функция иронии и гротеска в образах Пророка и Иосифа Ужасного?
Сравните финал «Дикой песни» с «Сном смешного человека» Достоевского. В чём сходство переживания «чуда» и любви к миру?
Какие черты классической антиутопии (например, у Оруэлла или Хаксли) можно найти в романе Тюкина? Чем он от них отличается?
Проблемные и дискуссионные вопросы
Можно ли считать Пророка «спасителем» или он — лишь новый тиран? Аргументируйте свою позицию.
Является ли «Дикая песня» предупреждением о будущем или рефлексией о природе власти в любом обществе?
Возможен ли в мире романа выход из цикла тирании? Какие намёки на это даёт финал?
Как роман отвечает на вопрос: что происходит, когда память уступает место мифу?
В чём автор видит главную угрозу для человечества: в катастрофе как таковой или в способе реагирования на неё?